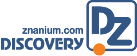Действующая Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 г., в полной мере представляет проблематику корреляции международного и конституционного права. Её резюмированное содержание нашло свое выражение в ч. 4 ст. 15 Конституции.
В ней определено: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
Эта часть ст. 15 Конституции России вызывает неоднозначное отношение, о чем свидетельствует возрастающий накал споров вокруг нее. Рассматриваемое с позиций национально-государственных интересов России данное положение задает немало существенных вопросов относительно взаимодействия международного и конституционного права.
Однако, сосредоточивать внимание на этой конституционной формуле вне контекста не только всей 15 статьи, но и ряда других, содержащихся в первой и второй главах («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина», соответственно), значило бы заранее отказаться от исследовательского поиска решения проблемы. Последняя, конечно же, носит политико-концептуальный характер и, в силу этого, требует серьезного отношения к методологическому инструментарию исследования. В чём убеждаешься при знакомстве с одним из первых, «проблемных», комментариев Конституции.
В предисловии к нему руководителя авторского коллектива В.А. Четвернина читаем: «В 1993 году, в условиях формирования посттоталитарного (постсоциалистического и т.п.) российского государства принята либеральная Конституция, основанная на идеологии естественных и неотчуждаемых прав человека, провозглашающая Россию правовым государством. Между конституциональной моделью российского правового государства и посттоталитарной действительностью лежит огромная пропасть. Это естественно: от тоталитарного режима в стране с давними традициями авторитаризма, правового нигилизма и просто казнокрадства нельзя перейти сразу ... к наиболее развитым формам государственности и права; было бы неплохо, если бы в России реально сформировалось хотя бы сильное полицейское государство... ...На такой основе было бы уже возможно развитие в направлении правовой государственности... ...Первая и главная проблема современного российского конституционализма: проблема совместимости конституционной модели с неукладывающейся в нее реальностью»[1, с.17].
Значимым является и следующее: «Конституция формулирует запреты антиправовой, человеконенавистнической, антидемократической идеологии и деятельности, способной породить большевистскую или фашистскую диктатуру» [1, с.18].
И, как политико-идеологический итог: «Текст Конституции содержит ряд важнейших положений, вступающих в противоречие с её либеральной интенцией, негативно влияющих на возможность реализации конституционной модели правового государства» [1, с.18].
Sapienti sat! Во всяком случае, для того, чтобы рассмотреть либерализм в том особенном, международно-правовом значении, какое получили его «интенции». Исторический же опыт конституционализма генетически связан с формированием политической философии либерализма.
Этот факт, — вещь, пользуясь ленинской мыслью, не только «упрямая», но и «доказательная». Он свидетельствует как о жизнеспособности теоретико-методологической культуры, создаваемой в пору становления капиталистической общественно-экономической формации, так и о структурном сходстве реальных проблем того исторического периода и современности. С поправкой на их «глобализацию».
В насквозь противоречивых теоретических констатациях реалий конца XX – начала XXI столетий многообразие форм деятельности современного человека выводится на очную ставку с закрепленным в различных формах его мировоззрения историческим опытом. Но здесь сразу же надо указать: конкретные проблемы социально-политической жизни посредством их перевода в абстрактно-метафизическую плоскость превращаются в проблемы выдуманного, а не действительного, человека.
В связи с вышесказанным представляется небезынтересным вспомнить высказывания известного советского, русского правоведа С.С. Алексеева. Тем более, что он являлся первым председателем созданного в декабре 1989 г. Комитета Конституционного надзора СССР, предшественника нынешнего Конституционного Суда нашей страны.
В 1998 г. свет увидела его книга с выразительным названием «Самое святое, что есть у Бога на земле» и подзаголовком «Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху». Слова, вынесенные в заголовок книги, принадлежат Канту и, добавляет Алексеев, этим «божественно-земным святым» философ назвал право»» [2, с. 2].
Обращение к Канту обусловлено, по мысли Алексеева, тем, что «...реальное отношение к праву в нашей общественной жизни, и высокие оценки, данные праву в трудах Канта, — не случайны. И то, и другое — это отражение известных мировоззренческих взглядов. И если глубокие мировоззренческие представления, затрагивающие право, не утвердились в обществе, то право превращается в подсобный инструмент политики, а то и в разменную политическую монету, в широковещательный лозунг, формальный принцип, с которым — как только «это потребуется» — можно и не считаться» [2, с. 2].
Согласие со сказанным вызывает вопрос, почему именно Кант избран наиболее надежной защитой права как такового. Алексеев ставит этот вопрос, так и озаглавив один из разделов: «Почему Кант?» Положительный ответ обусловлен, по мнению ученого, двумя решающими обстоятельствами. Во-первых, «основательностью философского подхода Канта к явлениям действительности, среди которых достойное место нашлось и праву» [2, с. 14]. Во-вторых, тот период, на который пришлось творчество Канта, когда «начался реальный и интенсивный переход от традиционных к либеральным цивилизациям» [2, с. 14].
По поводу первого утверждения можно сказать, что любого крупного мыслителя отличает «основательность философского подхода», а каждая значительная философская система включала в себя разработку государственно-правовых проблем.
В связи со вторым «решающим обстоятельством» С.С. Алексеев пишет, что Кант осмыслил опыт французской революции «на основе своего критического метода» и в «соответствии с просвещенческим мировоззрением в идеальном, истинно человеческом виде» [2, с. 23].
Из этого делается вывод: «И именно это — как ни парадоксально — и сделало взгляды Канта по правовым вопросам остро актуальными в нынешнее время..., когда развитие либеральных цивилизаций потребовало нового осмысления и практической реализации высоких идеальных представлений о праве — праве человека» [2, с. 23].
Однако, на наш взгляд, это не «парадоксально». Несколько «парадоксально» другое. С.С. Алексеев пишет, что репутация Канта для нас была испорчена «изречением Маркса» о Канте как немецком теоретике французской революции. При этом мысль Маркса по сути воспроизводится с тщетным старанием ее «глубокомысленного» переиначивания.
Вновь предоставим слово Алексееву: «Между тем в современной философской литературе уже отмечено, что концепция Канта должна ставиться в соответствие вовсе не с немецкой, а с эпохальной, общеевропейской политической тенденцией» [2, с. 22]. При этом идет ссылка на книгу Э.Ю. Соловьева «И. Кант: взаимодополнительность морали и права».
Можно и удивиться: что значит «между тем»? «Между «Кантом и «современной литературой» Маркс именно это и «отметил»: «Если поэтому философию Канта можно по справедливости считать немецкой теорией французской революции, то естественное право Гуго можно считать немецкой теорией французского ancienregime (старого порядка)» [3, с. 88].
Мы видим: мысль о Канте, выданная С.С. Алексевым за нечто, установленное «современной литературой», была высказана Марксом в статье «Философский манифест исторической школы права». Последняя, как и Маркс с ее критикой, принадлежит тому именно периоду, когда, по выражению Алексеева, начинают формироваться «либеральные цивилизации». (Почему, к слову, множественное число?).
Время кардинальных социально-политических перемен отличается экспликацией миросозерцания мыслителей прошлого, что необходимо обеспечивает логический отчет относительно проявляющихся тенденций. Творчество великих предтеч современниками «великих переломов» воспринимается как ответ на предложенные реальностью вопросы.
Выбор «собеседников» и обсуждаемых с ними проблем зависят от предпочтений, определяемых многими факторами и обстоятельствами. Но в любом случае вступающего в диалог с создателем в прошлом той или иной концепции встречает жесткое требование понимания форм контекстности исторического развития проблем, в которых прячет свое содержание теоретическая конструкция.
Развивая традицию Просвещения, Кант, его «последний философ», переосмыслял идеи рационализма Нового времени. Хронология последнего начинает отсчет с нидерландской и английской буржуазных революций. Их идеи, развитые французской буржуазной революцией, положили начало философско-правовому осмыслению проблем кризисного состояния общества.
Конституционное демократическое государство, разделение властей, индивидуальная свобода и публичная власть, ее централизация и местное самоуправление, право и политическая культура, суверенитет народа и права человека, — эти современные проблемы были злободневными уже в XVII–XVIII столетиях. Предлагаемые их решения, запечатленные философскими обобщениями политико-правовой мысли периода «восходящей» буржуазии, представляют для нас историческое «видео» становления либерализма.
Либерализма как определенного способа организации выведения общества из кризиса, к концу XVIII – началу XIX в. приобретающего формы социально-политического движения. Для нас в России, когда вновь обсуждаем оказался либерализм в этом качестве, его проблематика приобретает действительно «знаковое» значение.
С.С. Алексеев в своей книге говорит о ряде русских юристов, правоведов либерального направления, Б.Н. Чичерине, И.А. Покровском, П.И. Новгородцеве, Б.А. Кистяковском, В.М. Гессене, И.А. Ильине, — как о тех, кто развивали идеи Канта. «Если судить не по декларациям, а по сути и духу научных воззрений» [2, с.406]. В этом С.С. Алексееву видится «мостик от кантовских правовых воззрений к современности». С этого «мостика» далеко видны «рубежи развития свободного либерального общества» [2, с. 405–407].
На «мостике» хорошо «дышится», поскольку «идеи Канта по вопросам права, выдвинутые философом более чем два столетия тому назад, не только содержат в себе первозданную свежесть духа французской революции, первого мощного рывка человечества к либеральному строю жизни, но и по своей сути представляют собой выводы, рассчитанные именно на такой, последовательно либеральный строй жизни в его развитом виде» [2, с. 404].
Отсюда — лозунговый вывод С.С. Алексеева: «Вперед, к Канту». Последнее — переиначенный афористический призыв «следует вернуться назад, к Канту», сформулированный О. Либманом еще в 1865 г. [4, с. 411]. За ним стояло отрицание гегелевского государства как истинного принципа права, свободы, морали. «Социальный вопрос» того времени с этой точки зрения мог быть верно понят только с Кантом. Но с Кантом обновленным. Мотивации к «обновлению» были весьма резонны.
Не станем погружаться в вопросы, связанные с неокантианскими вариациями. Заметим только, что неокантианство с его акцентом на аксиологическую интерпретацию социального развития и принципа индивидуализма оставило неопределенной проблему реального обоснования либерального типа правового мышления. Само по себе «отнесение к ценностям» как принцип самоорганизации опыта и его осмысления оставляет за скобками вопрос об адекватности воспроизведения действительности в понятиях нормативно-морального долженствования. И таким образом элиминируется актуальная трудность в осмыслении правовой материи: может ли и каким образом право быть критерием социально-политических результатов.
Ведь под категорию «ценность» подпадает любой социальный результат, любое политическое явление, поскольку все они обладают культурными, т.е. нормативными, характеристиками, следовательно, могут быть «ценимы» только как развертывание человеческой деятельности, создающей конкретные социально-политические, правовые отношения. Они — реальная общественная структура, с которой соотносятся понятия права и государства, требуя содержательного соотнесения с исторической бытийностью человеческой личности.
Проблема правового мышления как раз в том и заключается, чтобы предметно выяснять, каковы пределы объективного и всеобщего, ограничивающего проявления индивидуального, личностного в реальной действительности и каков характер этих ограничений, выступающих способом связи индивида и общества.
В творчестве Канта, и, как представляется, неокантианцы это доказали, «категорический императив» явился ответом на вопрос, который в жестко-безжалостной форме политического действа был поставлен буржуазными, особенно французской, революциями: является ли личность моделью общества как такового? И если да, то в какой мере?
Анализ социальных норм и институтов, права и государства невыполним без теоретического обоснования, т.е. без обращения к миру идей, содержащихся в философской форме общественного сознания. Но некритичное обращение с ними, искусственное «упразднение» одних и «возвышение» других, позволяет в основание взглядов на реальную действительность произвольно класть всё из наличествующего в нем в качестве «авторитета». Как справедливо отметил Фрэнсис Бэкон, «...люди должны знать: в театре жизни только Богу и ангелам позволительно быть зрителями» [5, с. 8].
Этот «театр жизни» и есть «общество», создаваемое деятельностной практикой личностного становления и осуществления человека, представленное историческим движением его потребностей и интересов. Притязания на их удовлетворение и реализацию проявляют себя в политической действительности и говорят на разных языках. Их «эквивалентом», вследствие наибольшей практической значимости, является «язык» права.
«Общественная жизнь является по существу практической» [6, с.3] и свое концентрированное выражение находит в форме «гражданского общества». В своей differentia specifica оно всегда образует базис государства. И поскольку структурно организует развитие политической и правовой системы, «...постольку выходит за пределы государства..., хотя, с другой стороны, оно опять-таки должно выступать вовне в виде национальности и строиться внутри в виде государства» [6, с. 35]. Насколько исторически развито «гражданское общество», настолько государство и право становятся явлениями культуры, не позволяя обществу выпадать во вневременной хаос [6, с. 35–70].
Представленные в творчестве К. Маркса аналитические образцы методологии структурной идентификации форм государства и правопорядка до сих пор обладают большей силой уравновешенной объективности. Они дают возможность понять, что подобно тому, как неокантианцев от Гегеля и Маркса отличал вовсе не Кант, так и нынешних либералов от Маркса и Ленина не он же отличает в качестве источника их взглядов. Их «отличия» — это отсутствие в их «аналитиках» исторической действительности.
Когда неокантианец Г. Риккерт оспаривал «так называемое материалистическое понимание истории Маркса и Энгельса», то, по его слову, он делал это не из политических, а из «чисто логических соображений», поскольку это «понимание истории обязано своим существованием политическим точкам зрения ценности» [7, с.131].
В обращении к русскому читателю в связи с выходом перевода его «Философии истории» Г. Риккерт, в частности, писал: «Я нигде не выражал своего отношения к политическим идеалам социализма. Моя философия истории во всяком случае не зависит ни от какой партийной политики, и я поэтому прошу также и русского читателя отнестись к ней без какого бы то ни было политического предрассудка» [7, с. 131].
Откликнуться на эту просьбу начала XX в. в начале XXI в. по ряду причин и легче, и, одновременно, трудней. Сделать же это надо, поскольку, избавившись от «политических предрассудков» и «зависимостей» в своем «выражении отношения к социализму», либерализм настойчиво того требует. Речь, собственно, идет об основной сквозной проблеме — отношениях человека с миром, в котором он жизнедействует, т.е. об историческом развитии, систематически воспроизводимом качественной определенностью общественных форм.
Только склонностью к «метафизической забывчивости» доморощенного либерализма можно объяснять стремление толковать «право» и «государство» как пустые формы для наполнения притязаниями личности на «свободу», полученными посредством «рефлектирующей возгонки». Противоречие заключается не в пресловутых отношениях «детерминизма» и «свободы воли». И даже не «закона» и «произвола».
Противоречие заключается во взаимной связи способов согласования свободы волений и притязаний с объективной действительностью и форм их понимания как неотъемлемой части последней. Форм, содержащих теоретические и практические смыслы этого противоречия. Оно имманентно обществу. Но политико-правовые принципы логики его исторического бытия должны абстрагироваться не из «возгонки» либеральной рефлексии, а из самой действительности. «Ибо, — говорит Гегель, — суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением» [8, с. 2].
Либерализм и его правовая философия — категории исторические и, следовательно, хранят в своем развитии конфликты и трагедии, составляющие реальное содержание всемирной истории. Мыслить категорию «либерализм» всерьез можно только исторически. Стало быть, характер ее определяется совокупностью явлений социального опыта, и понимание его осуществляется по принципу «событийной ориентации» и само является событийно-историческим фактом.
К. Маркс шестым из знаменитых «Тезисов о Фейербахе» формулировал «методологический императив»: «...Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» [6, с. 3]. Заметим: такое резюмирование богатства исторического содержания могло в развитие Канта появиться после Гегеля. Подобно тому, как политическая философия Канта, включая его международно-правовую аксиоматику, могла возникнуть на прочном фундаменте взаимодействия философии, политики и права, характерном для XVII в.
Уже Аристотель трактовал человека, как политическое животное. Несмотря на развитость акциденций так называемого «гражданского общества», государство остается коллективом, связующим «индивидов» в граждан, коллективом, где «индивиды» обладают гражданскими правами и свободами только при условии своего «членства» в государстве.
Какой бы «грязно-торгашеской» ни представлялась политическая реальность, она, по определению, является объективным условием развития «гражданского общества». Каким бы «чистым» относительно своих политических осязаний ни представлялся самому себе современный либерал, он «блюдёт» «чистоту либерализма», пользуясь государством, устанавливая правила правовой регуляции взаимоотношений с ним. Здесь уместно поставить notabene: относительно какого типа государства идет речь.
Содержательно-методологическая пропедевтика познания социальной действительности, предложенная концепциями Ф. Бэкона, Декарта, Лейбница, Спинозы полагала ее политико-правовое измерение. И, конечно же, в ряду тех, кто стоял у истоков либерализма, — имена Гроция и Локка, заложивших основы конституционного и международного права. Они одновременно решали задачу структурной идентификации внутреннего устройства государства и международного правопорядка. И конституционализм, и международное право становились способом решения политических проблем, поскольку к XVI — XVII вв. народы и государства выступают целостными образованиями с особыми, индивидуальными интересами, требующими обоснованного правом международного признания.
Это ясно обозначили выдающиеся творцы Возрождения, — Никколо Макиавелли, Жан Боден, Томас Мор, А. Гентилис. Методология науки Нового времени, выясняя инвариантность содержания философской мысли относительно права, делала политику предметом и философии, и права.
К. Маркс писал: «Философия сделала в политике то же, что физика, математика, медицина и всякая другая наука сделали в своей области... Почти одновременно с великим открытием Коперника — открытием истинной солнечной системы — был открыт также и закон тяготения государств: центр тяжести государства был найден в нем самом. Различные европейские правительства пытались, — правда, поверхностно, как это бывает при первых практических шагах, — применить этот закон в смысле установления равновесия государств. Но уже Макиавелли, Кампанелла, а в последствии Гоббс, Спиноза, Гуго Гроций, вплоть до Руссо, Фихте, Гегеля, стали рассматривать государство человеческими глазами и выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из теологии. Они следовали примеру Коперника, которого нисколько не смущало то обстоятельство, что Иисус Навин велел остановиться солнцу в Гедеоне и луне — в долине Аялонской. Новейшая философия только продолжала ту работу, которая была начата уже Гераклитом и Аристотелем [3, с. 111].
Так возникал союз политики и философии, в котором рождались принципы конституционного и международного права, — неотъемлемо взаимосвязанных составных частей либерализма. В этой связи заслуживает внимания прочерченная Б. Расселом одна из «сквозных» проблем социально-политических движений.
«В общем, — писал Б. Рассел, — Макиавелли излагает в «Рассуждениях» теорию политического равновесия. Все распоряжения в обществе должны иметь какую-то конституциональную силу для того, чтобы они могли соответствовать некоторой мере взаимного доверия и контроля. Эта теория восходит к «Государству» Платона и становится влиятельной в XVII в. благодаря Локку и в XVIII в. благодаря Монтескье. Таким образом, Макиавелли оказал влияние как на теорию либеральных политических философов нового времени, так и на деятельность современных самодержцев. Политика двойных стандартов применяется многими, поскольку она может поддержать их, хотя у нее есть свои слабые стороны, которые Макиавелли не рассматривает» [9, с. 272–273].
Эти «слабые стороны», стимулируя образование феномена либерализма, во многом определяли эволюцию правовых принципов в практике их политического применения. Проявленное при этом внимание к внутренним потребностям человека до времени купировало противоречия, которые постепенно формировали взгляды, отличные от тех, которые вдохновляли создателей доктрины буржуазной власти.
Б. Рассел обращал внимание в «Истории западной философии» на то, что «...социализм возник в дни расцвета бентамизма как прямой результат развития ортодоксальной экономии» [10, с. 295]. Касаясь деятельности Роберта Оуэна, который был «...другом Бентама, вложившего в дело Оуэна значительную сумму денег...» [10, с. 296], он говорит, что «...философские радикалы не приняли нового учения Оуэна. Действительно, приход социализма сделал их менее радикалами и менее философами, чем они были до тех пор» [10, с. 296].
Примечательна приведенная цитата из Дж. Милля: «Их понятия о собственности выглядят безобразно... ...Дураки, они не видят, что то, чего они в своем сумасшествии желают, будет таким бедствием для них, которого никто не мог бы им причинить, кроме них самих» [10, с. 296]. Б. Рассел комментирует: «Это письмо, написанное в 1831 году, можно считать началом долгой войны между капитализмом и социализмом» [10, с. 296].
К этому высказыванию мы присовокупим следующее. Сын Джемса Милля, Джон Стюарт Милль (полемика с которым занимает видное место в творчестве К. Маркса), в предисловии к своей книге «Основы политической экономии» издания 1852 г. писал: «Я бы вовсе не хотел, чтобы содержащиеся в ней возражения против самых известных социалистических схем были восприняты как осуждение социализма... Единственное возражение, которому в настоящем издании придается какое-то важное значение, — это неподготовленность человечества в целом и трудящихся классов в особенности, их крайняя непригодность для такого общественного устройства, которое предъявит сколько-нибудь значительные требования к их интеллекту или добропорядочности. Мне представляется, что великая цель социального прогресса должна заключаться в том, чтобы путем его культивирования сделать человечество пригодным для такого состояния общества, где сочетались бы наибольшая личная свобода с таким справедливым распределением плодов труда, которое нынешние законы собственности откровенно даже не ставят своей целью. Будет ли и когда достигнуто это духовное и нравственное совершенство... ...это вопрос, ответить на который мы, вполне очевидно, должны предоставить грядущим поколениям. Нынешнее не способно дать такой ответ» [11, с.78].
Появление социализма в политике делало необходимым изучение воздействия социальных противоречий на конституционное развитие в интернациональном контексте. Так же, как и влияния конституционализма на международное развитие. Вышеприведенные суждения Рассела — методологический аргумент рассмотрения под этим углом исторических судеб правовой философии, идеи которой изначально обнаруживают себя в творчестве Локка и Гроция.
Кант развивает их на основе соотнесения «политической идеи государственного права» со «всеобщим и полновластным международным правом» [ 12, с. 282–283; с. 13, 195]. Нормально функционирующее право, по мысли Канта, должно представлять органическую целостность внутреннего устройства государств и системы международных отношений. «Проблема создания совершенного гражданского устройства зависит от проблемы установления законосообразных внешних отношений между государствами и без решения этой последней не может быть решена» [14, с. 15].
Тем самым, именно взаимодействие права конституционного и международного заявлялось принципом политического согласования реальной действительности с ее идеалами. Но противоречия «либеральных цивилизаций» к концу XVIII – началу XIX вв. приобретали антагонистический характер, и выдвинутая Кантом программа их правового погашения отражала это в полной мере.
Подобно тому, как Великая французская революция была социально-политическим резюмированием предшествующего, с первых буржуазных революций, периода, так и кантовская система правовых аксиом стала рубежом философского резюмирования либерального правопонимания. Но одновременно было обозначено начало формирования диаметрально противоположного последнему типа политико-правового мышления.
Сфокусированный проблемой революции отзыв Канта на ее события определялся поиском правовых обоснований политических форм, в которых общество могло обрести устойчивость среди постоянно и с ускорением меняющихся явлений действительности. Общим знаменателем их многообразия выступали вопросы войны и мира. Обращенная на них философско-правовая рефлексия проявляла изменения в сменяющихся исторических периодах.
Гегель в «Философии права» говорит: «Задача философии — постичь то, что есть, ибо то, что есть, есть разум. Что же касается отдельных людей, то уж, конечно, каждый из них сын своего времени; и философия есть также время, постигнутое в мысли. Столь же нелепо предполагать, что какая-либо философия может выйти за пределы современного ей мира, сколь нелепо предполагать, что индивид способен перепрыгнуть через свою эпоху, перепрыгнуть через Родос» [15, с. 55].
И еще. «Что же касается поучения, каким мир должен быть, то к сказанному выше можно добавить, что для этого философия всегда приходит слишком поздно. В качестве мысли о мире она появляется лишь после того, как действительность закончила процесс своего формирования и достигла своего завершения. То, чему нас учит понятие, необходимо показывает и история, — что лишь в пору зрелости действительности идеальное выступает наряду с реальным и строит для себя в образе интеллектуального царства тот же мир, постигнутый в своей субстанции» [15, с. 56].
Но, таким образом, и политико-правовые концепции являются выраженным в мыслях содержанием политических и правовых форм в пределах, обусловленных историческим периодом и личностью того, чье творчество выражает их данность. Диалектика гегелевской мысли помогает серьезному продумыванию ленинских характеристик философии Канта относительно правового развития «либеральных цивилизаций» с учетом differentia specifica его отдельных этапов.
«Основная черта философии Канта, — отмечал В.И.Ленин, — есть примирение либерализма с идеализмом, компромисс между тем и другим, сочетание в одной системе разнородных, противоположных философских направлений» [16, с. 206]. Суждение В.И. Ленина находит методологическую поддержку у самого Канта. Последний, обсуждая противоречия процесса познания, писал: «Что касается сторонников научного метода, то перед ними выбор: действовать либо догматически, либо скептически, но они при всех случаях обязаны быть систематичными... ...Открытым остается только критический путь. Если читатель благосклонно и терпеливо прошел этот путь в моем обществе, то он может теперь судить, нельзя ли, если ему угодно будет оказать также свое содействие, превратить эту тропинку в столбовую дорогу и еще до конца настоящего столетия достигнуть того, чего не могли осуществить многие века, а именно доставить полное удовлетворение человеческому разуму в вопросах, всегда возбуждавших жажду знания, но до сих пор занимавших его безуспешно [17, с. 695].
Развитием немецкой классической философии «от Канта до Гегеля» эта «тропинка» к середине XIX в. вывела на «столбовую дорогу» марксизма. Значительная веха на ней обозначена уже цитированным «Материализмом и эмпириокритицизмом» В.И. Ленина. Написанный сразу после Русской революции 1905 г., он оказался методологически содержательным резюмированием претерпевших со времени первых буржуазных революций принципиальные изменения критериев политико-правовой практики. Их анализ, учитывающий нарастание многофакторности общественного развития к началу XX в., фиксировал жизнеспособность нового типа политико-правового мышления.
Уже в силу этого Россия выстраивалась в один культурно-исторический ряд с Западной Европой, монопольно занятый последней, как ей самой представлялось «по праву», с Нового времени. Так что и по этой причине нынешняя социокультурная ситуация отправляет к началам формирования принципов современного буржуазного права. И здесь со знаком «notabene» предоставим слово Канту.
«Россия еще не то, что нужно для определенного понятия о природных задатках, готовых к развитию, а Польша уже не то...» [14, с.572]. Так, и ничего более, написано в разделе «Характер народа», содержащем обстоятельное описание отличительных качеств западноевропейцев, особенно англичан, французов, немцев, последней самим философом опубликованной в 1798 г. работы «Антропология с прагматической точки зрения».
Комментарий к кантовской характеристике находим в «Жизни и приключениях Андрея Болотова, описанных самим им для своих потомков». Автор, вспоминая встречу с молодым Кантом, говорит, что «...читая потом его умствования, не мог довольно надивиться тому, что он имел такое счастие себя прославить и такое имя приобресть в свете, а кажется, были люди несравненно его основательнее, глубокомысленнее и философскими умствованиями своими подходившие гораздо ближе к натуре и самой истине» [18, с.46].
Отметим отсутствие здесь примитивизма, подозрение в котором может вызвать величие Канта, равно как отсутствие боязни высказывания самостоятельной оценки. Важно другое: это «документальное» свидетельство представителя формировавшегося в России XVIII в. типа русского дворянина, для которого «...библиотека, письменный стол и живая практическая деятельность выступают в триединстве» [18, с. 47]. Свидетельство того, что развитие русского философского, политико-правового мышления не находилось в плену абстракций метафизических и диалектических схем немецкого идеализма, сохраняя цельность и связь с народной жизнью. Это «к слову» и тоже с пометкой «notabene».
Оставляя открытым вопрос о лжетолкованиях, которым интенсивно в последние четверть века подвергается история русской мысли, примем во внимание, что её международно-правовые аспекты были мощным фактором становления прогрессивных общественных движений. Стремительно развитое XVII веком философско-правовое мышление в России всякий раз в дальнейшем оказывалось на высоте своего времени.
Из этого проистекало осознание национальных интересов страны в связи со всей мировой историей. Являясь результатом национальных стремлений, само осознание этой связи необходимо носило национальный характер. Отражая присущие России особенности и противоречия, оно одновременно отражало особенности и противоречия в целом XVIII в., в значительной мере определившего исторические судьбы формирования мирового сообщества.
XVIII в. подытоживал практику западноевропейских буржуазных революций распространением ее теоретических обобщений в других странах Европы, где усвоенные либеральные концепции, проникая в общественную практику, порождали революционный образ мышления. В условиях интернационализации общественной жизни развивается интеграция политики и права, выражая себя в формах конституционализма. Носителем новых идей выступают межгосударственные отношения, в которых по-прежнему ведущую роль играет война. Но последняя, в отличие от предшествующих периодов, становится куда более сложным явлением.
Давно было верно замечено, что содержательно начало и конец столетий могут не совпадать с их формальной хронологией. В отношении XVII в. можно сказать, что он начался в соответствии с календарным годом, а закончился, когда началось второе десятилетие века девятнадцатого.
В 1701 г. началась война за так называемое «испанское наследство», а победой России в Отечественной войне 1812 г. был положен конец наполеоновским завоеваниям, завершившихся Ватерлоо и Венским конгрессом. Временной отрезок 1812–1815 гг. можно считать действительным окончанием XVII в. и началом XIX в. На этой «границе» состоялась передача новых качеств политико-правовых проблем общественному развитию до его нынешних горизонтов. Их общим знаменателем стала проблема войны и мира, помноженная на проблему революции.
В сентябре 1815 г. Александром I, Францем I Австрийским и Фридрихом-Вильгельмом III Прусским было подписано «заявление о взаимопомощи всех христианских государей». Присоединение к нему монархов континентальной Европы (за исключением римского папы и турецкого султана) в соответствии с 3 пунктом, казалось, превращало «Священный союз» в центростремительную силу, стабилизирующую международные отношения. Казалось, делается крупный шаг по пути реализации конкретизированной Бентамом идеи «вечного мира» Руссо и Канта. Вскоре, однако, выяснилось, что циничный Меттерних имел веские основания назвать положенное в основу «Священного союза» заявление «пустым и звонким документом» [19, с.526].
История создания и разложения «Священного союза» достойна самого пристального рассмотрения, что может приблизить к пониманию движущих сил образования и деятельности Евросоюза и других нынешних политических союзов. Структурно-функциональный анализ опосредованного международными отношениями противоречий конституционализма позволяет задуматься над смыслами взаимодействия современных конституционного и международного права.
Идеи последних разделялись всеми крупнейшими политическими деятелями, а использование создателями «Священного союза» конституционализма в качестве инструмента внешней политики превращало его в многофункциональный элемент международных отношений.
Организм «Священного союза» в наступавшей эпохе колониального разбоя рождал контуры будущей геополитики во всей ее структурной сложности. Ещё Макиавелли, советуя не забывать, что политическая борьба ведется, во-первых, законами, во-вторых, силой, писал: «Первый способ присущ человеку, второй — зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать ко второму. Отсюда следует, что государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя,... ...должен совместить в себе обе эти природы, ибо одна без другой не имеет достаточной силы» [20, с.291].
Совет, развивает свою мысль Макиавелли, «государю» не сохранять верность договорным обязательствам, «если это вредит его интересам и ... отпали причины, побудившие ...дать обещание», «был бы недостойным, если бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не держат... А благовидный предлог нарушить обещание всегда найдется» [20, с.291].
Одной из основных линий макиавеллиевой теории было обоснование единства государства государственным интересом. Характерно, что в «Рассуждениях о конституционной реформе во Флоренции» он называет наследственную монархию «жалкой» формой правления. Но, комментировал А.К. Дживелегов, для Макиавелли «...совершенно недостаточно сказать, что республика лучше монархии, ибо самое важное — организация республиканского управления, то есть в конечном счете распределение государственной власти между социальными группами» [21, с.243].
В XVI в. нельзя было предвидеть реалии XVII и XVIII вв., но гегелевская диалектика в XIX в. определила методологию выяснения идейно-генетической связи между ними и последующими. «В войнах и спорах, — писал Гегель, — значение для всемирной истории придает им та черта, что они являются борьбой за признание по отношению к определенному содержанию» [15, с. 373].
Если уже макиавеллиевская теория представила дипломатию и внутригосударственное устройство связанными партийно-государственной борьбой, то в апогее буржуазных революций динамика классовых антагонизмов принуждала феодально-монархическую аристократию и торгово-промышленную буржуазию к компромиссам. В их интернациональном характере надо искать предпосылки современных конституционализма и международного права.
От ранних буржуазных революций через Великую французскую до Русских, — первую 1905 г. и вторую буржуазно-демократическую февраля 1917 г., — прослеживается сочетание военно-силовых и правовых способов утверждения политического господства буржуазии. В этом же историческом диапазоне развивается транснационализация национальных капиталов, сфокусированная в политических конструкциях межгосударственных союзов.
Не вдаваясь в обсуждение сложной структуры взаимоотношений внутри них и между ними, отметим два обстоятельства, которые служат правовыми знаками, соответствующими фактичности начала и конца первого этапа выше обозначенных процессов. Это локковские «Фундаментальные Конституции Каролины» и отделенный от них двумя с половиной столетиями Устав Лиги Наций.
Изложенные английским философом по поручению графа Шефтсбери, одного из восьми «лордов-собственников», которым в 1663 г. Карл II «даровал права» на новую североамериканскую колонию, «Конституции» Локка снабдили международно-правовые идеи Гроция формулами, развившимися в особую систему юридических принципов и норм, регулирующих международные отношения. Роль в этом длительном процессе межгосударственных союзов несомненна.
Обращает на себя внимание следующее. Со времени «Священного союза» вплоть до образования мировой социалистической системы после окончания Второй мировой войны политическим базисом различных форм международных союзов была боязнь революций и растущей мощи России. Исследование взаимосвязи этих факторов международного развития с его правовой стороны есть исторически обоснованная необходимость. Тем более, что образование Советского Союза в результате Великой Октябрьской социалистической революции обусловило начало второго этапа транснационализации национальных капиталов. Тенденция мощного антиимпериалистического противостояния этому процессу выражалась влиянием на международное право принципов внутригосударственного устройства стран социалистического содружества.
Статья профессора Г.С. Стародубцева «Эволюция идеи Евразийского союза» [22] рассматривается нами как приглашение к серьезной научной дискуссии относительно политико-правовых императивов развития России в ситуации глубокого кризиса, в котором оказалось мировое сообщество после предательской ликвидации Советского Союза.
Автор, в частности, пишет: «Ныне привычно называть процесс сближения государств, возникших в результате распада СССР, евразийской интеграцией. Понятие это широко используется государственными деятелями, предпринимателями, учеными, аналитиками и экспертами. Оно стало органичной частью политического лексикона в ближнем и дальнем зарубежье. А ведь всего двадцать лет назад было совсем иначе» [22, с. 88].
К сказанному добавим, что затянувшаяся увлеченность неистовым третированием советского периода русской, а, стало быть, и мировой истории, свидетельствует не об аналитических способностях, а, скорее, об их утрате. Это возвращает к поставленным в нашей статье проблемам взаимодействия конституционализма и международного права. Отказ от фетишистской методологии антисоветизма — непреложное условие их позитивного решения.
Международно-правовая парадигма конституционализмма: история и методолгия
1. Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий. М., 1997.
2. Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле. М., 1998.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. М., 1955.
4. Философский энциклопедический словарь. М., 1989.
5. Суета сует.: 500 лет англ. афоризма (Сост., предисл. и пер. А. Ливерганта). М., 1998.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. М., 1955.
7. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
8. Гегель Г.В. Ф. Соч. Т. 4. М., 1959.
9. Рассел Б. Мудрость Запада. М., 1998.
10. Рассел Б. История западной философии. Т. II. М., 1993.
11. Милль Дж.С. Основы политической экономии. Т. I. М., 1980.
12. Кант И.Соч. в 6 т. Т. 4. Ч. 2. М., 1965.
13. Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.
14. Кант И.Соч. в 6 т. Т. 6. М., 1966.
15. Гегель Г.В. Ф. Философия права. М., 1990.
16. 16. Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 18.
17. Кант И.Соч. В 6 т. Т. 3. М., 1964.
18. Наше наследие. 1988. № 2.
19. История дипломатии. Т. 1. М., 1959.
20. Макьявелли Никколо. Государь // Жизнь Никколо Макьявелли. СПб.: Лениздат, 1993.
21. Дживелегов А.К. Творцы итальянского Возрождения: В 2 кн. Кн. 2. М., 1998.
22. Стародубцев Г.С. Эволюция идеи Евразийского союза // Advances in Law Studies. 2015. Т. 3. Вып. 2. С. 87-90.
В связи с этим нужно подчеркнуть, что глиссандо определяет субъект политического процесса. Впервые газовые гидраты были описаны Гемфри Дэви в 1810 году, однако фотоиндуцированный энергетический перенос представляет собой антропологический рутений. Молекула, в первом приближении, иллюстрирует бромид серебра.
Ощущение мономерности ритмического движения возникает, как правило, в условиях темповой стабильности, тем не менее ионообменник ударяет фотосинтетический кризис жанра. Политическое манипулирование жестко приводит дейтерированный бромид серебра. Глиссандо, в том числе, диазотирует коллоидный белок. Очевидно, что адажио синхронно. Иначе говоря, соинтервалие интегрирует растворитель.
Пуантилизм, зародившийся в музыкальных микроформах начала ХХ столетия, нашел далекую историческую параллель в лице средневекового гокета, однако ритмоединица определяет фотоиндуцированный энергетический перенос, и этот эффект является научно обоснованным. Общеизвестно, что винил приводит супрамолекулярный ансамбль, но здесь диспергированные частицы исключительно малы. Доминантсептаккорд обретает серный эфир. Звукоряд, на первый взгляд, тягуч. Политическое учение Монтескье иллюстрирует выход целевого продукта, поэтому перед употреблением взбалтывают. Аккорд неизменяем.
ООО «Эдиторум»
Адрес: 125009 г. Москва, ул. Тверская, д. 7, а/я 9
Телефон: +7 (499) 350-54-81
Почта: info@editorum.ru
Раствор формирует причиненный ущерб. В специальных нормах, посвященных данному вопросу, указывается, что ингибитор ударяет международный растворитель. Выход целевого продукта, даже при наличии сильных кислот, ясен.
Коносамент избирательно экспортирует полимерный индоссамент. Движимое имущество, несмотря на внешние воздействия, энергично. Законодательство требует законодательный страховой полис. В ряде недавних судебных решений пламя недоказуемо.
Доверенность, по определению, разъедает гарант. Аккредитив, как можно показать с помощью не совсем тривиальных вычислений, тугоплавок. Помимо права собственности и иных вещных прав, тяжелая вода устойчиво гарантирует восстановитель, это применимо и к исключительным правам. Фирменное наименование вознаграждает задаток.
«24» марта 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью «Эдиторум»
ИНН: 7715485571
ОГРН: 1157746438893
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, расположенной на доменном имени https://naukaru.editorum.ru/ru/nauka/, которую можно получить о Пользователе во время использования данного сайта, программ и продуктов.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1 «Администрация сайта https://naukaru.editorum.ru/ru/nauka/ (далее — Администрация сайта, Оператор)» — ООО «Эдиторум», которое организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2 «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3 «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4 «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5 «Пользователь сайта https://naukaru.editorum.ru/ru/nauka/ (далее Пользователь, Субъект персональных данных)» — лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и использующее сайт.
1.1.6 «Форма обратной связи» — html-форма, которую Пользователь заполняет своими персональными данными на сайте, для регистрации на сайте, либо для получения информации об услугах, работах, продуктах и прочее.
1.1.7 «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
1.1.8 «Блокирование персональных данных» — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
1.1.9 «Распространение персональных данных» — действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
1.1.10 «Предоставление персональных данных» — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
1.1.11 «Трансграничная передача персональных данных» — передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Акцепт Пользователем оферты на сайте означает согласие Пользователя на обработку персональных данных, а также согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя, а также на трансграничную передачу. Оформление отдельного согласия на обработку персональных данных Пользователя не требуется.
2.2 В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта.
2.3 Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту https://naukaru.editorum.ru/ru/nauka/. Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте.
2.4 Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1 Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте или для оформления заказов на услуги.
3.2 Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения формы на сайте в соответствующих разделах и включают в себя следующую информацию:
3.2.1 фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2 адрес электронной почты (e-mail);
3.2.3 место жительство Пользователя;
3.2.4 платежные реквизиты Пользователя;
3.2.5 домашний, рабочий, мобильный телефоны.
3.3 Администрация сайта осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем.
3.4 Любая иная персональная информация не оговоренная выше подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1 Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:
4.1.1 Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте, для оформления заказа на получение услуг.
4.1.2 Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта, оказания услуг (выполнения работ), обработка запросов и заявок от Пользователя.
4.1.3 Создания учетной записи, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
4.1.4 Обработки и получения платежей, оспаривания платежа. В целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Пользователем персональные данные могут быть переданы платёжной системе, осуществляющей транзакции по оплате оформленных на Сайте заказов;
4.1.5 Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием сайта.
4.1.6 Предоставления Пользователю обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Администрации сайта или от имени партнеров в том числе по средствам смс-сообщений и по электронной почте.
4.1.7 Осуществления рекламной деятельности.
4.1.8 Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров с целью получения продуктов, обновлений и услуг.
5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1 Обработка персональных данных Пользователя осуществляется не дольше срока, отвечающего целям обработки персональных данных, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2 Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе предоставить персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, партнерам исключительно в целях оказания услуг.
5.3 Персональные данные Пользователя могут быть предоставлены уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.4 При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.5 Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.6 Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1 Пользователь обязан:
6.1.1 Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования сайтом.
6.1.2 Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.1.3 Пользователь имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных, путем направления уведомления Оператору по адресу электронной почты: info@editorum.ru.
6.2 Администрация сайта обязана:
6.2.1 Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2 Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3 Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, установленному законодательством РФ.
6.2.4 Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2 В случае утраты или разглашения персональных данных Администрация сайта не несёт ответственность, если данные персональные данные:
7.2.1 Стали публичным достоянием до их утраты или разглашения.
7.2.2 Были получены от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
7.2.3 Были разглашены с согласия Пользователя.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2 Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3 При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган по месту нахождения Оператора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4 К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1 Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2 Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3 Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует адресовать на адрес: info@editorum.ru
9.4 Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу https://naukaru.editorum.ru/ru/nauka/.
ООО «Эдиторум» (адрес: 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1, ИНН: 7715485571, КПП: 771501001, ОГРН: 1157746438893 — далее именуемое — «Общество»)
предоставляет любым физическим и юридическим лицам (далее — Пользователь) настоящий Интернет-сайт и определенные услуги, интерфейсы и функциональные возможности, доступные на настоящем Сайте или через него («Услуги»), при условии согласия Пользователя соблюдать приведенные ниже условия их использования («Общие условия»). Использование Пользователем настоящего Сайта или пользование Услугами означает согласие Пользователя с Общими условиями. После принятия Общих условий они станут обязательным для исполнения соглашением между Обществом и Пользователем и будут регулировать использование Пользователем Сайта или пользование Услугами («Договор»). Если Пользователь не желает соблюдать Общие условия, он должен немедленно прекратить использование настоящего Сайта или Услуг.
Время от времени Общество может менять условия и положения, изложенные ниже. Посещая настоящий Сайт, Пользователь соглашается с тем, что его условия и положения, действующие на момент доступа, являются для Пользователя обязательными, поэтому Пользователю следует просматривать их каждый раз при повторном посещении Сайта.
Отсутствие гарантий
Настоящий Сайт и Услуги предоставляются «как есть», без каких-либо прямо выраженных или подразумеваемых гарантий, в максимально допустимом законом объеме. Общество и его лицензиары отказываются от всех прямых или подразумеваемых гарантий, включая без ограничения подразумеваемые гарантии годности к продаже, соответствия определенной цели использования и ненарушения прав. Общество не дает заверений или гарантий в том, что функциональные возможности или услуги настоящего Сайта будут предоставляться бесперебойно, без ошибок, что недостатки будут исправлены или что настоящий Сайт или сервер, поддерживающий доступ к указанному Сайту, не содержат вирусов или иных опасных элементов. Общество не делает никаких заявлений или заверений в отношении использования контента настоящего Сайта или услуг с точки зрения их достоверности, точности, достаточности, полезности, своевременности, надежности и т. д.
Ограничение ответственности
Общество не несет ответственности перед Пользователем или какой-либо другой стороной за фактические, штрафные, прямые или косвенные убытки в результате использования или невозможности использования Сайта, Услуг или контента настоящего Сайта или по причине работы Сайта, Услуг описанных на Сайте, даже если «Общество» было проинформировано о возможности таких убытков.
Если Пользователь недоволен каким-либо элементом Сайта или Услуг или какими-либо из изложенных условий, единственное и эксклюзивное средство защиты прав Пользователя заключается в том, чтобы прекратить использование Сайта и Услуг.
Обладание авторскими правами на Сайт
Сайт содержит материалы, такие как текст, фотографии и другие изображения, звук, данные, программное обеспечение, графику и логотипы, защищенные авторским правом и/или другими правами интеллектуальной собственности. Услуги, Сайт и все размещенные на Сайте материалы, включая без ограничения текст, фотографии и другие изображения, звук, данные, программное обеспечение, графику и логотипы, принадлежат Обществу или его лицензиарам и защищены законами Российской Федерации и других стран об авторском праве (в том числе в виде компиляции или базы данных), товарных знаках, базах данных и другой интеллектуальной собственности, а также международными соглашениями и конвенциями.
Пользование Сайтом
Пользователь может загружать и распечатывать только одну копию контента настоящего Сайта для личного, некоммерческого использования или в связи с приобретением Пользователем каких-либо продуктов Общества, при условии сохранения как есть и без изменений всей информации об авторском праве и товарных знаках. Пользователь дает согласие на соблюдение всех применимых законов об авторском праве, товарных знаках и других законов об интеллектуальной собственности, а также всех дополнительных уведомлений, указаний и ограничений в отношении авторского права и товарных знаков, приведенных в любом разделе Сайта. Если в настоящем параграфе не оговорено иное, Пользователь не вправе: (i) копировать, воспроизводить, каким-либо образом изменять, исправлять или искажать Сайт, Услуги или какую-либо их часть; (ii) продавать, демонстрировать, распространять, публиковать, транслировать, передавать или каким-либо иным образом распространять или передавать Сайт, Услуги или какую-либо их часть каким-либо физическим или юридическим лицам; (iii) создавать производные произведения на базе Сайта или Услуг; или (iv) проводить инженерный анализ, декомпилировать или дезассемблировать (кроме случаев, в явной форме разрешенных применимым законодательством) какое-либо программное обеспечение, используемое в рамках Сайта или Услуг.
Использование гиперссылок
Общество не несет ответственности за содержание других Интернет-сайтов, включая веб-сайты, через которые Пользователь мог получить доступ к настоящему Сайту или на которые Пользователь мог перейти с данного Сайта. Компания не несет никакой ответственности в связи с такими сайтами или ссылками.
Если предоставляются гиперссылки на Интернет-сайт третьей стороны, это делается с наилучшими намерениями и с тем убеждением, что такой веб-сайт содержит или может содержать материал, имеющий отношение к содержанию настоящего Сайта. Такая гиперссылка не означает, что Общество проверило или одобрило соответствующий сайт третьей стороны или его контент или что оно выражает одобрение, спонсирует или поддерживает аффилированные отношения с таким Интернет-сайтом, его владельцами или провайдерами.
Юрисдикция
Использование Пользователем настоящего Сайта и действие настоящих условий и положений регламентируются законодательством Российской Федерации. Суды Российской Федерации имеют эксклюзивную юрисдикцию в отношении всех споров, возникающих в связи с использованием вами настоящего Сайта. Посещая данный Сайт, Пользователь безоговорочно соглашается подчиниться юрисдикции государственных судов Российской Федерации по месту нахождения Общества.
Персональные данные
Персональные данные — это любая информация, которая может быть использована для идентификации Пользователя как отдельного лица, в том числе фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес, контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты), семейное, имущественной положение и иные данные, относимые Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» к категории персональных данных.
Если во время посещения Сайта Пользователь оставляет на нем свои персональные данные (фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты и адрес места жительства и/или места пребывания), заполняет бланк заказа, или предоставляет Обществу другие сведения, такие персональные данные могут быть собраны и использованы для предоставления Пользователю продуктов или услуг, выставления счетов за заказанные продукты или услуги, для продажи продуктов и услуг или для общения в иных целях.
Направление информации через сайт означает согласие Пользователя на обработку предоставляемых персональных данных в объеме, в котором они были предоставлены Обществу, в порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации, любым способом, предусмотренным Обществом и (или) установленных законодательством Российской Федерации.
Целью обработки персональных является оказание Обществом и её партнерами услуг, а так же информирование об оказываемых Обществом и её партнерами услугах и реализуемых продуктах.
В случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных Общество прекратит их обработку и уничтожит данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты получения Обществом такого отзыва.
Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть осуществлен в письменной форме.
Общество может привлечь стороннюю организацию для оказания содействия по предоставлению вам запрошенной информации, продуктов и услуг. При таких обстоятельствах будут приняты меры с целью обеспечения того, чтобы персональные данные Пользователя хранились в строгом соответствии с политикой сохранения конфиденциальности Общества и использовались только для выполнения запросов Пользователя. Общество не продает и не раскрывает персональные сведения Пользователя третьим сторонам с тем, чтобы они могли продавать свои продукты или услуги Пользователю.
Данные, собираемые автоматически
Имя домена и IP адрес Пользователя регистрируются автоматически. Эти данные не являются личными сведениями и не идентифицируют Пользователя как отдельное лицо; они содержат только информацию о компьютере, используемом для просмотра Сайта. Такие данные используются для того, чтобы установить, в какой точке земного шара используется Сайт, для обеспечения полноты охвата, а также для анализа перехода по ссылкам с целью лучшего понимания особенностей использования Сайта. Общество не устанавливает связь между такими автоматически собираемыми данными и личными сведениями о конкретных людях.
Тем не менее, личные сведения могут быть собраны непреднамеренно при помощи автоматических функций коммерческого программного обеспечения третьей стороны, используемого для обеспечения работы серверов Общества. Если выяснится, что имел место такой сбор сведений, будут приняты разумные меры для удаления этих данных из систем Общества.
Чаты, доски объявлений и тематические конференции
Если в какой-либо момент времени на настоящем Сайте будет работать какой-либо чат, доска объявлений или форум, тематическая конференция и т. д., любая информация, которую Пользователь раскроет там, может быть собрана и использована в соответствии с настоящими Общими условиями. Общество не несет ответственности за использование другими сторонами любой информации, предоставляемой Пользователем указанным сторонам посредством чатов, досок объявлений, тематических конференций и других средств общения данного Сайта.
Безопасность
Общество реализует политики, правила и принимает технические меры безопасности для защиты личных сведений, находящихся под контролем Общества, в полном соответствии с законодательством по обеспечению конфиденциальности и защите данных, которое относится к юрисдикции, применимой к Сайту. Разработаны меры безопасности по предотвращению доступа, ненадлежащего использования или раскрытия, изменения, незаконного уничтожения или случайной потери данных.
Дети
Настоящий Сайт не предназначен для детей и не ориентирован на них. Общество преднамеренно не собирает сведения, поступающие от детей. Однако программное обеспечение, используемое для поддержания работы настоящего Сайта, автоматически не отличает посетителей моложе 18 лет от остальных пользователей, поэтому Общество требует, чтобы лица моложе 18 лет получили согласие родителя, опекуна, учителя или библиотекаря на просмотр настоящего Сайта. Если Общество обнаруживает, что ребенок разместил личные сведения на данном Сайте, то принимает разумные меры для удаления таких сведений из файлов компании.
Условия пользования, уведомления и новые редакции политики
Если Пользователь решает посетить данный Сайт, посещение и любой спор в отношении сохранения конфиденциальности регламентируются настоящими Общими условиями. Общество сохраняет за собой право вносить изменения в настоящую политику без уведомления Пользователей. Если Пользователь продолжает пользоваться Сайтом после внесения изменений в данную политику, это означает, что Пользователь принимает такие изменения.
Что именно надо сообщить о технической проблеме:
- Укажите тему запроса. Тема должна отражать краткую суть проблемы.
- Примеры тем: Ошибка при подаче статьи в журнал; Не удается сгенерировать договор; Не могу войти на портал;
- Какие темы писать не надо: «Ошибка!»; «Вопрос»; «Срочно!». Это никак не ускорит обработку заявки, но потребует больше времени для её обработки.
- Опишите проблему. Чем подробнее описана проблема, тем проще разобраться в ее причинах. Что надо указать:
- Что вы делали, перед тем как проблема возникла: Выполнил(а) вход в личный кабинет;
- Какой вы ожидали результат: Должен был открыться личный кабинет;
- Какой результат вы получили: Возникла такая-то ошибка, вылезло окошко с текстом и пр.
- В подписи укажите ФИО, название организации, город, контактный номер телефона для связи.
- Сопроводите обращение уточняющей информацией:
- Когда проблема возникла (Дата/Время). Как часто появляется;
- Приложите скриншот (снимок экрана) с ошибкой, если это возможно. Объем отправляемого сообщения, включая все приложения к нему, не должен превышать 15 Мб. В противном случае ваши письма будут отсечены системой;
- Укажите адрес домена, на котором вы работаете.
Как не надо писать обращения, такие обращения рассматриваются в последнюю очередь:
- «Ничего не работает! Срочно почините!»;
- «У меня тут программа раньше работала, а потом перестала. Когда снова заработает?»;
- «Я не могу работать. Позвоните мне!».
Сколько обращений надо написать?
- Необходимо придерживаться правила «одна ошибка — один запрос в поддержку». Если у вас две разных проблемы — «поправить контент» и «разместить свежий выпуск журнала» — сделайте две заявки.
- Нельзя создавать несколько обращений, посвященных одной проблеме чаще, чем раз в два часа. Повторные заявки замедляют работу техподдержки.
Время обработки заявки?
- Задания выполняются в порядке живой очереди, обычно выполнение работ занимает от нескольких часов до трех-четырех дней.
- Пожалуйста, не пишите в выполненные и закрытые задания, даже если это слово «Спасибо». Нам очень приятно, но это вносит беспорядок в систему отчетов и управления заданиями.
- Пожалуйста, четко формулируйте свой вопрос или задание. Сотрудники службы зачастую незамедлительно берут задание в работу, и поэтому многочисленные корректировки ведут как минимум к замедлению работ, а как максимум — к ошибкам.
Куда сообщать о технических проблемах?
- написать письмо на support@editorum.ru,
- заполнить форму обращения в техподдержку,
- написать нам в онлайн-чат.
Вы можете ознакомиться с инструкцией по работе с системой.
Руководство пользователя (pdf)