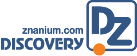The article deals with the problems of growing up, mental development in childhood on the example of the ideas and images of the famous Russian writer A.N. Tolstoy, an expert in child psychology. The process of growing up of the only child - a boy in the family takes place in the conditions of the country house life, in his interaction with the nature of his small motherland and in parallel with the natural rhythms. His various activities and affairs, including home schooling, as well as emotional-personal communication with close adults (parents, home teacher) and peers, family traditions, personality-oriented, gendered position of adults in upbringing, the writer considers important factors of mental development. The threshold of growth in the child's personality and consciousness by age ten is the acquisition of independence. It is reflected in the voluntary behavior, activity, cognitive and emotional processes when an internal plan of action is formed, the hierarchy of motives with priority of moral ones, and the image of oneself in the set of ideas about one's skills and qualities, gender identity, attitude towards oneself, including time. Differentiation of emotional processes by orientation leads to the emergence of a wide range of cognitive, aesthetic, moral experiences, as well as their awareness, analysis and control over them. Integration of cognitive processes contributes to the formation of internal activity of cognition of the world around in a set of goals, means of their achievement, control of the result obtained, which has a positive emotional coloring, visual and figurative nature. Bright individuality of the child is manifested in the emotionality of the world-perception, expectation and experience of a miracle, happiness, joy of everything that happens in the natural and social world, a high level of cognitive activity, in the first love, magical dreams, poetic creativity.
personality-centered education, worldview, visual-image cognition, communication with adults and peers, voluntary behavior, cognitive and emotional processes, independence
Традиция описания внутреннего мира единственного ребенка с яркой индивидуальностью и восторженно-эмоционального отношения к детству в художественной литературе идет от Л.Н. Толстого (1852): «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений» [4, с. 46]. Алексей Николаевич Толстой (1883-1945), приступив в соответствии с этой традицией к работе в эмиграции над повестью «Детство Никиты», во многом автобиографической (1919-1922), писал: «Начал – и будто раскрылось окно в далекое прошлое со всем очарованием, нежной грустью и острыми восприятиями природы, какие бывают в детстве» [3, с. 472]. На представление А.Н. Толстого о детстве как радостном периоде жизни указал К. Чуковский: «Эта книга Счастья – кажется, единственная русская книга, в которой автор не проповедует счастье, не сулит его в будущем, а тут же истощает его из себя. «Хорошо, Никита?» – спрашивает у мальчика его веселый отец. «Чудесно!» – отвечает Никита. Все образы и события в этой радостной книге отмечены словом чудесно…» [1, с. 30]. Обращение к описанию А.Н. Толстым взросления ребенка представляется чрезвычайно актуальным, поскольку в условиях трансформации современного детства доля эмоционально-личностного общения родителей с детьми, ребят со сверстниками и природой не только уменьшается, а заменяется взаимодействием с виртуальной реальностью.
Детство Никиты проходило, казалось, в достаточно единообразных условиях быта деревенской усадьбы Сосновка. Но его взаимодействие с природой малой Родины, близкими взрослыми и сверстниками наполняло жизнь важными событиями, приводило к множеству захватывающих впечатлений и необыкновенных открытий, способствуя становлению индивидуальности, сознания и личности. Год жизни Никиты в 9-10 лет завершился в связи с переездом осенью в город переходом от домашнего обучения к поступлению во второй класс гимназии, т.е. началом нового этапа психического развития.
Эмоциональность мироощущения. Жизнь Никиты в усадьбе протекала параллельно природным ритмам: сезонам года − от зимних холодов к поздней осени, временам суток − от раннего утра к вечеру и ночи. Обе жизни − Никиты и природы малой Родины, переплетались и сливались так, что он был не только близок к ней, ощущал себя ее неотъемлемой частью, но будто растворялся в ней. Единение с природой обуславливало эмоциональную впечатлительность, отзывчивость на все необычное, рождало любовь к родному дому и родному краю, делало очаровательным, прелестным их восприятие, познание, взаимодействие с ними. Поэтому мироощущение Никиты, как главную характеристику его яркой индивидуальности, отличали эмоциональность, оптимистичность, переживание счастья, радости. Каждое утро начиналось ожиданием чего-то светлого, великолепного, нового, интересного: «Никита проснулся от счастья. Утро было ясное и морозное… От счастья Никита поскорее вылез из постели» [2, с. 115]. Разбудивший его ночью весенний ливень стуком в окно и по железной крыше Никита, сидя в кровати, «слушал улыбаясь. Чудесен шум ночного дождя. «Спи, спи, спи, - торопливо барабанил он по стеклам, и ветер в темноту порывами рвал тополя перед домом. …«Все будет ужасно, ужасно хорошо, - думал он и проваливался в мягкие теплые облака сна» [2, с. 139-140]. В день рождения Никита «с минуту еще полежал: до того было хорошо, проснувшись, слушать свист иволги, глядеть в окно на мокрые листья» [2, с. 155].
Эмоциональные переживания Никиты все более дифференцировались по своей направленности на эстетические, интеллектуальные, нравственные. Природные явления вызывали эстетические чувства (красивого, прекрасного, гармонии и пр.), и поэтому оказываясь превосходными, восхитительными морозное или майское утро, пушистые снега, высокие сугробы, лед на реке, звездная ночь, весеннее синее-синее небо, ослепительные потоки солнца, летний ливень и пр. Эти же чувства окрашивали разнообразные занятия Никиты в каждое время года: спуск с горки на скамейке, построение снежной пещеры, катание на лодке и купание в пруду, езду на Клопике и на возу после молотьбы и пр. Интеллектуальные чувства (приятное волнение, любопытство и интерес, удивление и изумление, любознательность и др.) сопровождали познание природы, животных и птиц, привычек и характера взрослых и сверстников. Родство с природой не только рождало ожидание счастья, но и положительные эмоции ее познания, стимулируя создание фантастических образов. Проводив деревенских детей после елки до плотины, «Никите казалось, что он идет во сне в заколдованном царстве. Только в заколдованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе» [2, с. 121]. В общении Никиты со взрослыми, сверстниками, домашними животными проявлялись гуманные чувства привязанности, любви, нежности, уважения, жалости, сочувствия, симпатии, сопереживания, отзывчивости, товарищества, первая влюбленность и др. Чувство страха он пережил в битве с мальчишками и быком, известии о тонущем отце в половодье, а стыда - при бегстве от соперников в драке, указании отцом на ошибки в управлении Клопиком, нарушении обещания ответить на Лилино письмо или при одной мысли о предательстве своих чувств к ней с Анной. Так, переживая стыд, Никита понимал недопустимость безнравственных поступков, принимал ответственность за них. Более того, он осознавал моральные требования, предъявляемые ему окружающими, а также свои нравственные качества и практические умения. Он понимал свою провинность, оценивал моральную сторону поступка, осознавал их отрицательную оценку взрослыми или сверстниками. Переживание стыда превращалось в устойчивое образование его личности. У него складывалось обобщенное представление о нравственно должном и понимание того, что если поступить вопреки ему, то будет стыдно. Поэтому стыд возникал до совершения поступка (возможное предательство с Анной чувств к Лиле), лишь в силу представления о том, что данное действие способно вызвать это чувство. Значит стыд, сдерживая Никиту от тех поступков, которые он считал плохими, становился нравственным мотивом поведения.
Тяжко, скучно, невесело Никите становилось с возрождением и преображением природы весной. О ней кричали тревожными голосами черные грачи, возвратившиеся на старые места к разоренным гнездам. «Эти птицы будто взялись из сырого, густого ветра, будто их нанесло вместе с тучами, и, цепляясь за шумящие ветлы, они кричали о смутном, о страшном, о радостном, - у Никиты захватило дыхание, билось сердце» [2, с. 135]. Непонимание мальчиком происходящих изменений в природе, с животными наряду со стремлением вникнуть в их суть сопровождались тяжелыми эмоциональными переживаниями. «У Никиты болела голова все эти дни. Сонный, встревоженный, бродил он по двору… Ему было мутно и тревожно, точно что-то должно произойти страшное, чего нельзя понять и простить. Все – земля, животные, скот, птицы перестали быть понятными ему, близкими, - стали чужими, враждебными, зловещими. Что-то должно было случиться, - непонятное, такое грешное, хоть умри. И все же его, сонного и одурелого от ветра, запаха падали, лошадиных копыт, навоза, рыхлого снега, мучило любопытство, тянуло ко всему этому. Когда он возвращался домой, мокрый, одичавший, пахнущий собакой, матушка глядела на него внимательно, неласково, осуждающе. Он не понимал, за что сердится она, и это еще более подбавляло мути, мучило Никиту. Он ничего плохого не сделал за эти дни, а все-таки было тревожно, будто он тоже виноват в каком-то ни с того ни с сего начинавшемся во всей земле преступлении» [2, с. 138]. Ощущение одиночества, оторванности от родных корней, разлада с близкими и природой, желание сохранить с ними тесные эмоционально-положительные отношения, прежде всего любовь матушки, обострилось, когда мальчик случайно забрел в заброшенный плугарский домик на колесах. «Никита стоял и думал, что вот он теперь один-одинешенек, его никто не любит, все на него сердятся. Все на свете – мокрое, черное, зловещее. У него застлало глаза, стало горько: еще бы - один на всем свете, в пустой будке… «Господи, - проговорил Никита вполголоса, и сразу по спине пробежали мурашки, - дай, господи, чтобы было опять все хорошо. Чтобы мама любила, чтобы я слушался Аркадия Ивановича… Чтобы вышло солнце, выросла трава… Чтобы не кричали грачи так страшно… Чтобы не слышать мне, как ревет бык Баян… Господи, дай, чтобы мне было опять легко…» Никита говорил это, кланяясь и торопливо крестясь. И когда он так помолился, глядя на бутылку и черенок от ножа, - ему на самом деле стало легче» [2, с. 139]. Стремление мальчика осознать свои эмоциональные состояния и переживания, понять причины их возникновения, найти способы контроля за ними и избавления от отрицательных говорило о появлении особого внутреннего мира эмоций и чувств, о приобретении ими произвольности, а также о том, что теперь Никита жил не только в ситуативном настоящем, но и в желаемом будущем, ожидая его наступления.
Чувство отчужденности от привычной жизни и родной природы, заброшенности в иной мир Никита испытал при переезде в город. После спокойного радостного деревенского раздолья ему, как и матушке, не любившей город и городскую жизнь, не понравилась новая квартира в семь тесноватых, необжитых комнат, да и сам город: «за окном – громыхающие по булыжнику ломовики, и спешащие, одетые все, как земский врач из Пестравки, Вериносов, озабоченные люди бегут, прикрывая рот воротниками от ветра, несущего бумажки и пыль. Суета, шум, взволнованные разговоры» [2, с. 183]. В сумерках из окна Никита видел закат за городом, похожий на деревенский, но оторванный от жизненных корней он не находил себе места в новых условиях. А потому как птенец «Желтухин за марлей, чувствовал себя пойманным пленником, чужим – точь в точь Желтухин» [2, с. 184],
Общение с родителями и домашним учителем. Доверие к миру складывалось у Никиты благодаря близости к природе родного края, а также родительской любви. Она создавала ощущение тепла, уюта, надежности и защищенности в родном доме, когда «в комнате пахло теплой штукатуркой, вымытыми полами» [2, с. 106]; в столовой − «горячим хлебом, сдобными лепешками» [2, с. 109]; в прихожей – «печным теплом, шубами и сладковато-грустным запахом старинных вещей из ящиков огромного комода» [2, с. 124]; даже пыль на лепном карнизе лежала серенькая и славная; а «теплый, уютный свет лился из окон дома, из столовой» [2, с. 180]. За утренним чаем матушка, Александра Леонтьевна, в сером теплом платье, целуя Никиту, смотрела на него ясными глазами. По вечерам она склоняла голову над книгой, а он рассматривал картинки в «Ниве» или сидел, прислонившись головой к ее плечу. При ее улыбке «в серых глазах были зеленые искорки. Улыбаясь, матушка становилась краше всех на свете» [2, с. 141].
Она следила за успехами сына в учении, выказывая недовольство при их отсутствии. После рождественских каникул она долго объяснялась с ним, «волновалась и доказывала ему, что за праздники он обленился и опустился, готовит из себя, очевидно, волостного писаря или телеграфиста на станции Безенчук» [2, с. 129], опираясь в аргументации на наглядно-образный характер мышления Никиты. Наказанием стало сообразное его возрасту задание рисовать вечером географическую карту Южной Америки.
Матушка всегда старалась понять настроение, эмоциональное состояние сына, предвидеть планируемые им действия. Когда он отказался надеть башлык в морозный день, она дрогнувшим голосом лишь отметила: «Я не знаю, в кого ты стал неслухом» [2, с. 91]. Причесав и нарядив его к елке, она пожелала: «…если бы ты всегда был таким мальчиком» [2, с. 118]. Когда Никита вернулся после весенней молитвы в плугарском домике она, увидев перемену в его чувствах, «вдруг нежно улыбнулась, провела ладонью Никите по волосам и сказала: «Ну что, набегался? Хочешь чаю?» [2, с. 139]. Известие о тонущем в половодье отце объединило матушку с сыном в переживании горя и ожидании лучшего. Она «села у окна и позвала Никиту. Он прибежал, обхватил ее за шею, прильнул к плечу, к пуховому платку. «Бог даст, Никитушка, нас минует беда, - проговорила матушка тихо и раздельно и надолго прижалась губами к волосам Никиты» [2, с. 143].
Достоинство воспитательной позиции матушки, которую можно назвать личностно-ориентированной, сказывалось при сравнении с авторитарной ее приятельницы, Анны Аполлосовны, приехавшей с сыном Виктором и дочерью Лилей в гости. Ее постоянные публичные замечания сыну громким недовольным голосом оскорбительны, унизительны. «Виктор, - вдруг воскликнула она, - нечего тебе слушать, что мать говорит про взрослых, ты должен уважать начальство. … Виктор, как ты держишь вилку и нож?... Не чавкай… Придвинься ближе к столу…» [2, с. 112]. Она «крикнула вдогонку: "Виктор! …Как ты идешь? …Ты идешь, как на резинке тащишься. Уходи бодро. Не колеси по комнате, дверь – вот она. Выпрямись… На что ты будешь годен в жизни, не понимаю!» [2, с. 127]. В последний вечер каникул Анна Аполлосовна объявила густым голосом: «Я сказала, - значит; ножом отрезано, хорошенького понемножку. Вот что, дети, - она повернулась и ткнула указательным пальцем Виктора в спину, чтобы он не горбился, - завтра понедельник, вы это, конечно, забыли. Кончайте пить чай и немедленно идите спать. Завтра чуть свет мы уезжаем» [2, с. 127].
Ощущение эмоционального единства, тесной общности Никиты с семьей создавали ее традиции, например, подготовка и встреча праздников. Так, в день рождения Никита, получив чин адмирала, участвовал в торжественном поднятии отцом флага на пруду, а потом катался с Аркадием Ивановичем, на лодке − подарке родителей, мужской выбор которого они предварительно обсуждали. Матушку и Никиту объединяли заботы о благополучии и жизни домашних живых душ − коте Ваське, Василии Васильевиче, еже Ахилке, птенце − совсем еще маленьком, бедняжке, желторотом скворце Желтухине; Никиту и отца - страсть к лошадям и верховой езде. Но главной заботой семьи было сохранение урожая, ожидание дождя в летнюю жару, когда зрели хлеба. При известии о том, что барометр показал бурю все домашние «собрались и сидели у круглого сороконожечного стола. Говорили шепотом, оглядывались на раскрытые в невидимый сад балконные двери» [2, с. 171].
Об отце, Василии Никитьевиче, живущего зимой в городе, Никита думал с любовью и нежным весельем, вспоминая «…краснощекое, с блестящими глазами и блестящими зубами, веселое лицо отца – темная борода на две стороны, громкий похохатывающий голос. Можно было часами глядеть ему в рот, помирая от смеха, когда он рассказывал» [2, с. 129]. Узнав о тонущем в половодье отце Никиты пережил аффект: «Самое страшное было то, что "около Хомяковки. Све"т потемнел в глазах у Никиты: в коридоре вдруг запахло жареным луком. …Никита зажмурился и, как заяц, закричал. Но он не помнил этого крика» [2, с. 142]. Живой и веселый нрав отца, от которого особенно хорошо пахло здоровьем, его эмоционально-восторженное отношение к жизни и повседневным делам (полевые работы, купание в пруду, поездки в гости, на ярмарку и пр.): «Хорошо, отлично!» заражали Никиту ответной радостью, желанием освоить мужские занятия, способствовали идентификации с отцом. На вопрос отца о понравившейся из табуна лошади, «Никита так же, как отец, прищурился и показал пальцем на темно-рыжего меринка Клопика» [2, с. 155]. «Хорошо, Никита?» – спросил отец из коляски у скачущего на коне сына, а тот ответил: «Чудесно. Клопик – удивительная лошадь».
Прыгая за отцом в пруд, догоняя и плывя рядом с ним, Никита ждал похвалы за умение плавать. Он знал, что в отличие от матушки его желание овладеть верховой ездой поддерживал отец, подарив еще на елку кожаное настоящее седло, уздечку и хлыст. В вопросе о необходимости такого обучения столкнулись два противоположных взгляда на гендерное воспитание сына – женский, охраняющий от любых жизненных трудностей, даже мороза и верховой езды, и мужской, отстаивающий взрослость с ее делами. Отец считал, что с наступлением 10 лет Никита уже не ребенок, а потому должен быть совершенно самостоятельным: «запрети ему ездить верхом, запрети ходить пешком, - тоже ведь может нос разбить, - посади его в банку, отправь в музей… я вовсе не хочу, чтобы из него вышел какой-нибудь несчастный Слюнтяй Макаронович» [2, с. 162-163]. Матушка все-таки признала при домашних правоту мужского подхода к воспитанию, разрешив сыну поехать верхом на Клопике в гости к соседям.
То есть достижение Никитой десяти лет родители, а также А.Н. Толстой, считали важным рубежом в становлении его взрослости, а ее показателем – самостоятельность сына. Она возникала в результате определенного уровня осознания Никитой самого себя, становления образа себя. Этот образ содержал знания мальчика о своих личностных качествах и практических умениях, возможностях и способностях в разных видах деятельности, переживаниях и чувствах, представление себя во времени, половой идентичности, а также отношение к себе. Ярко окрашенное положительными эмоциями оно основывалось на бескорыстной любви и заботе близких взрослых, тесном общении с товарищами, успехах в разнообразных занятиях.
Самостоятельность опиралась на произвольность поведения и деятельности, когда, преодолевая их импульсивность и ситуативность, Никита переходил к осмысленной внутренней регуляции действий, становился способным управлять собой во всех сферах психики и видах деятельности: обдумывал и ставил их цели, планировал предстоящие действия, исполнял принятое решение, контролировал его ход и достигнутый результат. Его целеполагание отличалось самостоятельной, инициативной постановкой целей, определяемой не только внешними обстоятельствами, но и собственными мотивами, а также длительным их удержанием. За утренним чаем, когда с началом рождественских каникул стало немного скучно от нечего делать, он предположил, «что если взять чайную ложку и сломать, то из одной части выйдет лодочка, а из другой можно сделать ковырялку – что-нибудь ковырять» [2, с. 98]. Функциональные же особенности скамейки для катания с горки Никита четко продумал и наблюдал, как по его просьбе ее делал плотник Пахом. А встав утром раньше всех, решил быстро одеться, не мыться и не чистить зубы, удрать на речку с классных занятий, где полететь на новой скамейке. Или выбежать на крыльцо, засунув башлык, который велела надеть матушка, под комод, чтобы не нашли. Принятую от матушки как наказание цель рисовать географическую карту Южной Америки упустил из-за серьезного размышления о разлуке с Лилей. Никита осознанно нарушал требования взрослых, считая цели своего поведения важнее.
Для достижения личностно значимых целей Никита прилагал волевые усилия, мобилизовывал активность на пути к их продвижению, преодолевая трудности и препятствия. Зимой вопреки запрету матушки пошел драться с кончанскими мальчишками; без разрешения родителей летом уходил на весь день в табун, где конюшонком состоял Мишка Коряшонок. Наблюдая за приемами его скачек как примером для подражания, понимания правил, способов действий и их результата, Никита обучался у него верховой езде, решив: «Голову сломаю, а научусь ездить лучше Мишки» [2, с. 162].
Самостоятельность Никита, как отец, учитель, мальчишки, связывал с половой идентичностью - осознанием и принятием принадлежности к мужскому полу, т.е. освоением свойств личности, интересов, стереотипов полового поведения. Как представитель мужского пола, он не только знал, как должен себя вести; но и выбирал соответствующие ему поло-ролевые предпочтения, ценностные ориентации и мотивы; опираясь на них, старался строить свое поведение и деятельность.
Аркадий Иванович, домашний учитель Никиты, как член семьи, искренне разделял личностно-ориентированную позицию матушки и гендерную отца в воспитании сына, участвовал в семейных праздниках, переживал в трудные минуты. Так, при вести о тонущем Василии Никитьевиче Никита видел, что него «тряслись губы, а зрачки глаз были как точки» [2, с. 142]. Он не раскрыл Никите тайну о подарке отца или о решении Анны Аполлосовны уехать.
Никита уважительно относился к Аркадию Ивановичу как к учителю и личности. Он сказал Виктору, ученику второго класса гимназии, с одной стороны, о страшной требовательности учителя - «задушил учением», а с другой, о необыкновенных умениях - «он какую угодно книжку может прочесть в полчаса» [2, с. 108]. Наблюдал Никита, как Аркадий Иванович на пруду ловко и бесстрашно ходил в лодке на веслах, отлично плавал, опережая мальчика и его отца. И все-таки Никита был уверен, что для учителя огромным удовольствием было решение арифметических задач, диктовка пословиц и поговорок, от которых у него глаза слипались. Он мог предпочесть перевод с немецкого более важному делу – смотреть за изготовлением чудной скамейки или сбежать с занятий ради катания на ней с горки, ведь «солнце искрилось в двух морозных окошках классной, выманивало: «Пойдем на речку» [2, с. 92]; заплясать при известии о начале рождественских каникул - двух счастливых и долгих неделях перерыва в обучении. Учитель, всегда пронюхивая замыслы Никиты, еще вечером узнал о новой скамейке и встал пораньше для предупреждения его попытки удрать от чая и занятий. Поэтому Никита старался с ним, удивительно расторопным и хитрым, держать ухо востро. Аркадий Иванович, по мнению Никиты, был еще и невыносимым человеком, потому что «всегда веселился, не говорил никогда прямо, а так, что сердце екало» [2, с. 90]. Он никогда не жаловался матушке на Никиту, но по его поведению и ответам на ее вопросы за утренним чаем мальчик понимал, что учитель порицает Никиту за вчерашнее сидение на верстаке Пахома.
Продуктивная педагогическая позиция предотвращения шалостей не отдаляла, не противопоставляла взрослого и мальчика, а сближала, превращая их общение в веселую игру без с страха предполагаемого или реального наказания. Нарушения дисциплины Никитой – это шалости, имеющие игровой или познавательный характер, а не проступки, направленные на оказание зла другому. Убегая с занятий к речке, он для отвода глаз учителя шел по дороге по чужим следам, а где снег был нетронутый, - задом наперед. Увидев его фигуру, Никита спрятался в быстро выкопанной пещере в мысу над речкой. Аркадий Иванович, зная интерес мальчика ко всем событиям, сказал о полученном матушкой письме. Тогда Никита выглянул из пещеры, а учитель весело засмеялся – конфликта удалось избежать, оставашись друзьями.
Аркадий Иванович всегда был на страже позиции педагога. Когда вечером Никита спросил у матушки, кто свистит на чердаке, учитель, «линовавший тетрадку», точно того и ждал, проговорил скороговоркой: «Когда мы говорим про неодушевленное, то нужно употреблять местоимение что» [2, с. 106]. Или заметив, что Никита неверно повел реку Амазонку на карте Южной Америки, Аркадий Иванович проговорил: «Александра Леонтьевна, я думаю, вы правы: этот мальчик готовит себя в телеграфисты на станции Безенчук, - спокойным голосом, от которого полезли мурашки» [2, с. 131]. Рассказывая о выдающихся исторических личностях, учитель отмечал те качества их характера, на которые Никите следовало равняться: «…такие люди, как Пипин Короткий, отличались непоколебимой волей и мужественным характером. Они не отлынивали, как некоторые, от работы, не таращили поминутно глаз на чернильницу, на которой ничего не написало, они даже не знали таких постыдных слов, как «я не могу» или «я устал». Они никогда не крутили себе на лбу вихра, вместо того, чтобы усваивать алгебру» [2, с. 133].
Стремление Никиты «держать ухо востро» с Аркадием Ивановичем способствовало развитию у мальчика внимания, тонкой наблюдательности за поведением и эмоциями учителя, т.е. он учился понимать поведение и эмоции другого человека, уважать его и сочувствовать ему, сравнивать его переживания со своими, анализируя собственные чувства и состояния. Смотря как Аркадий Иванович читал полученное письмо, Никита сообразил, что у того, как и у него, есть своя тайна. Раздумывая о разлуке с Лилей зимним вечером, Никита отметил, что и Аркадий Иванович переживал разлуку с городской учительницей, пожалев его. Никита заметил, как весной, не дождавшись письма из Самары, он «сидел под ключом у себя в комнате, мрачный как ворон» [2, с. 147]. Увидев перед отъездом в город в дверной щелке, как учитель «стоит перед зеркалом и, держа себя за кончик бородки, задумчиво посвистывает» [2, с. 181], Никита понял, что он решил жениться.
Благодаря личностно-доверительному отношению с учителем, единственным близким мужчиной в доме, впервые влюбившийся Никита спросил у него понравились ли ему приехавшие дети, подразумевая Лилю. Хотя Аркадий Иванович не вмешивался в спор родителей об обучении сына верховой езде, Никита обратился к нему за поддержкой. А он лишь назвал три важные качества, необходимые также и для умения ездить верхом: терпение, выдержка и твердость характера. Когда Никита переживал аффект при вести о тонущем отце, учитель не только утешал его, но и призывал опираться в поведении на нравственные принципы, требующие от мужчины сдерживать страх. «Аркадий Иванович схватил его и потащил в классную комнату. «Как тебе не стыдно, Никита, а еще взрослый, - повторял он, изо всей силы сжимая ему обе руки выше локтя. – Ну что, ну что, ну что?... Василий Никитьевич сейчас приедет… Очевидно – просто попал в канаву, вымок» [2, с. 142].
Общение со сверстниками, первая влюбленность. Для Никиты, единственного ребенка в семье, важную сферу общения составляло взаимодействие с мальчишками с «нашего конца деревни» в противовес очень опасным, кончанским, даже драки между ними. На главного приятеля, предводителя наших, Мишку Коряшонка, Никита смотрел с большим уважением, а предводителя кончанских, Степку Карнаушкина, остерегался. Мишка умел поджигать «кошки» - вмерзшие в лед белыми пузырями болотные газы, поднявшиеся со дна пруда, укрощать быка Баяна, плавать, скакать верхом, организовывать битвы с кончанскими и пр. У Мишки и с его одобрения, но без разрешения родителей, Никита летом старательно учился верховой езде, ведь он показал некоторые ее лихие приемы. Купаясь с мальчишками, он освоил плавание – «умел боком, на спине, и стоя, и колесом под водой» [2, с. 168].
В общении со сверстниками складывалась произвольность поведения Никиты. Позвав его на зимнюю битву, Мишка поставил его в ситуацию нравственного выбора: мама не велела драться - а вдруг наскочит Степка с заговоренным кулаком; не идти в деревню – тогда он станет не просто трусом, ведь боятся только девчонки, но и обманщиком. Конечно, победили правила мальчишек. Когда, столкнувшись с кончанскими, наши побежали, Никита импульсивно бросился вслед за ними. Увидев, что некоторые ребята упали, а другие сами легли от страха, он вспомнил нравственную норму: лежачего бить нельзя. «Никите стало, - хоть плачь, обидно и стыдно: струсили, не приняли боя» [2, с. 104], поэтому, сжав кулаки, он шагнул навстречу Степке и со всей силой ударил его в грудь. Степка сел в снег, а Никита пошел на кончанских при поддержке наших. «Никита возвращался на свой конец, взволнованный, разгоряченный, посматривая, с кем бы еще схватиться» [2, с. 104]. Окликнувший его Степка признался, что Никита здорово ему дал, предложил дружбу и обменяться чем-нибудь в знак ее. Никита выбрал самое лучшее – перочинный ножик с четырьмя лезвиями, а Степка – свинчатку, налитую свинцом бабку, предупредив: «Не потеряй, дорого стоит!». Так в волевом поведении Никита опирался на нравственные принципы; преодолевая страх, поступал по справедливости, по товарищески, защищал слабого, проявлял смелость, снисхождение к побежденному, не жалея для него достойного подарка. Этим принципам Никита следовал и в ситуации, когда он и Виктор импульсивно побежали от тронувшегося во дворе за ними быка Баяна. «Виктор оглянулся, закричал, упал в снег и закрыл голову руками. Баян был шагах в пяти. Тогда Никита остановился, стало вдруг горячо от злобы, сорвал шапку, подбежал к быку и шапкой стал бить его по морде: «Пошел, пошел!» Бык стал, опустил рога. Сбоку подбежал Мишка Коряшонок, щелкнул хлыстом. Тогда Баян замычал жалобно, повернулся и пошел к колодцу. У Никиты от волнения дрожали губы» [2, с. 111].
Мальчики ценили в друг друге наряду с выполнением нравственных норм умения в разных видах деятельности, а не внешнюю красоту, как девочки. Никита похвастался Виктору строгим учителем, победой над первым силачом Степкой Карнаушкиным и обменом с ним подарками; а Виктор − постоянными строгостями, лишениями обеда в гимназии. Он утверждал, что может поднять одной рукой словарь Макарова; тысячу дней ничего не есть, но еще не пробовал без позволения мамы. «Никита подошел к изразцовой печи с лежанкой, не касаясь руками, вспрыгнул на лежанку, поджал ногу и спрыгнул на одной ноге на пол. «Если быстро, быстро перебирать ногами – можно летать, - сказал он» [2, с. 109]. А Виктор заявил, что у него в классе многие летают.
Сыновья Петра Петровича Девятова, приятеля Василия Никитьевича из Колокольцовки, рассказывали Никите, приехавшему к ним на пасху, о своих необыкновенных умениях. Лешка выиграл двести яиц в прошлую пасху и ел их, пока живот не раздуло, под водой может не дышать и все видеть; Володя - звонить на колокольне так, что она вся трясется, прыгнуть с самой верхушки дерева вниз головой в воду, а пойти по хозяйственной части; Коля - книжки читать, особенно летом живя в шалаше, в город поехать учиться.
Мальчишки не допускали в свое общество девчонок из-за различий не только в занятиях и интересах, но и в нравственных принципах. Виктор, заметив интерес Никиты к Лиле, подчеркнул ее главное отрицательное качество − постоянные жалобы матери. А на предложение Никиты что-нибудь почитать в гостиной Виктор ответил, что ему только с девчонками играть, противопоставив уже занятия тех и других. Когда Никита отказался защищать построенную Виктором и Мишкой Коряшонком снежную крепость, Виктор еще обиднее высказался в отношении чувств Никиты, категоричнее, оскорбительнее определив своеобразие половых различий: «С девчонкой связался, кавалер!». Никите было неудобно и обидно, когда мальчишки из Колокольцовки из-за преследования его Анной подсмеивались над ним: «С девчонкой связался!».
Братья Анны считали, что эта противная девчонка к ним привязывается, «беспрестанно лезет, скука от нее страшная, потом матери жалуется, что ее бьют» [2, с. 149]. «Уйди хоть за тысячу верст, оглянись, она обязательно сзади треплется… И все ей не терпится, что неправду говорят, делают, что не велено… Володя сказал: «Сели мы обедать, а она сейчас матери докладывает: «Мама, Володя мышь поймал, она у него в кармане». А мне, может, эта мышь дороже всего» [2, с. 150].
Никиту, дружившего лишь с мальчишками, уже в первое утро за чаем поразила Лиля с голубым бантом в светлых вьющихся волосах привлекательностью, вызвала огромный интерес загадочностью. Ему «показалось, что это не настоящая девочка, до того хорошенькая, в особенности глаза – синие и ярче ленты, а длинные ресницы – как шелковые» [2, с. 110]. Если Никиту восхитила внешность Лили, то к собственной мальчик, редко присматривался. Так, скучая за утренним чаем и «глядя на свое отражение в самоваре, он долго удивлялся, какое у него длинное, во весь самовар уродливое лицо» [2, с. 98]. Когда его, одетого на елку, матушка, пригладив гребнем волосы на пробор, подвела к трюмо, он с изумлением увидел в зеркале нарядного и благонравного мальчика: «Неужели это был он?». В день рождения Никита неспешно оделся в новую рубашку и кожаные штаны и, умиляясь на самого себя, вычистил зубы.
Знакомясь с Лилей, Никита покраснел, шаркнул ногой, а она, протянув руку, поздоровалась и больше не обращала на него внимания. Теперь, когда Никите понравилась Лиля, все его мысли были растеряны, «ему не хотелось играть, и было, непонятно почему, грустно» [2, с. 111]. Поскольку для Никиты были важнее собственные эмоциональные переживания по поводу Лили, чем рациональные моральные нормы мальчишек в отношении девчонок, он стал постоянно анализировать свои и Лилины чувства, ее поведение, чтобы понять их и выстроить в соответствии с ними свое поведение, пойти навстречу Лиле и своим чувствам, пусть и вопреки мнению сверстников. Интерес Лили к себе Никита заметил, когда она с удивлением смотрела из окна на «бой» с быком и улыбнулась. А ему стало весело, и все время до обеда, катаясь с гор, «Никита краешком мыслей думал: «Когда буду возвращаться домой и пройду мимо окна, - оглянуться на окно или не оглянуться? Нет, пройду, не оглянусь» [2, с. 112].
Когда девочка тихо и молча клеила коробочку на елку, Никита отметил ее качества - серьезность, сдержанность, вежливость, аккуратность, а особенно сосредоточенность на работе. Предназначение коробочки для кукольных перчаток, указала Лиля, мальчик Никита, конечно, не поймет, подчеркнув половые различия. А когда Лиля лукаво заметила, что он стал красным, как свекла, Никита опять не знал, как себя вести, что сказать, не мог уйти из комнаты, будто прилип к стулу. Он не обиделся, не рассердился, хотя девочка смеялась над ним, а лишь смотрел на нее. На елке невероятное событие объединило их тайной, когда в прихожей они оторвались от детского хоровода: «Никита покраснел, но пододвинулся ближе и, сам не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее. Она сейчас же ответила скороговоркой: «Ты хороший мальчик, я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал, но это секрет» [2, с. 120].
После елки Никита вновь не мог понять свои чувства, объяснить, почему ему стало скучно играть с мальчишками. Когда, вернувшись домой, он услышал голос Лили, то «снова, как и во все эти дни, почувствовал счастье. Оно было так велико, что, казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет нежно и весело музыкальный ящичек» [2, с. 122-123]. Ощущение счастья от первой влюбленности, окрашивая восторгом восприятие окружающего мира, стимулировало творческое воображение, и тогда, рассматривая расписанные морозом стекла в кабинете отца, Никита сочинил стихи. И первая влюбленность, и первые попытки творчества складывались в его индивидуальность. Его поэтически-радостное отношение к миру передалось Лиле, поверившей в его полет во сне над потолком и увиденную вазочку на стенных часах. Они нашли в ней тоненькое колечко с синеньким камешком, волшебное, как решил Никита, надев его Лиле на указательный палец. А она «улыбнулась, вздохнула и, обхватив Никиту за шею, поцеловала его» [2, с. 126]. Никита опять сильно покраснел, но, собрав все присутствие духа, отдал Лиле смятую бумажку со стихами про лес.
Прощаясь с Лилей, как всегда сдержанной, перед ее отъездом, Никита вновь не понял ее чувства. Он лег в кровать, притворился, что спит, переживая во сне грусть расставания: «Ему казалось, что всему на свете – конец. В опускающейся на глаза дремоте в последний раз появился, как тень на стене, огромный бант, которого он теперь не забудет во всю жизнь… Он увидел теплые лапчатые листья, большие деревья, красноватую дорожку сквозь густую, легко расступающуюся перед ним заросль. Было удивительно сладко в этом красноватом от света, странном лесу, и хотелось плакать от чего-то небывало грустного» [2, с. 128].
Зимой Никита часто вспоминал о счастливых днях с Лилей, с грустью размышлял о разлуке с ней. Он остался верен ей, не подружился с Анной, все первое пасхальное утро ходившей за ним. Когда Никита отказался с Анной играть, и она чуть не заплакала, он сообразил: она за ним бегала, потому что у нее было же самое, что у него с Лилей. Он проявил твердость духа, а его сердце осталось непреклонным. «Никита быстро пошел к самому обрыву. Если бы Анна и сейчас увязалась за ним, - он бы прыгнул в пруд, так ему было стыдно и неловко. Ни с кем, только с одной Лилей у него могли быть те странные слова, особенные взгляды и улыбки. А с другой девочкой – это уж было предательство и стыдно» [2, с. 153].
Летом Никите перечитанное несколько раз удивительное Лилино письмо о том, что она его очень любит, не потеряла его колечко и не забыла стихи про лес, напомнило рождественские каникулы, большой бант над ее синими глазами. Его душу переполнили радость и счастье, он «привстал на стременах, взмахнул плетью… «Скачи, скачи, скачи, - думал Никита. Сердце его радостно, сильно билось. – Свисти, свисти, ветер!... Лети, лети, птица орел!... Кричи, кричи, чибис, - я счастливее тебя. Ветер да я, ветер, да я…» [2, с. 174].
При встрече с Лилей в городском доме Никита испытал стыд от сознания того, что не ответил на ее письмо. Он проглотил слюни, оторвал ноги от зеркального пола, побагровел, опустил голову, «почувствовал к себе отвращение, вроде как в коровьей лепешке» [2, с. 183]. Он просил прощения у как всегда строгой, сдержанной Лили, оправдывался, объяснял свой проступок большой занятостью в летом. Ночью Никита видел во сне разрешение трагической ситуации: он в синем мундире с серебряными пуговицами «идет по отсвечивающему полу и говорит Лиле: «Возьмите ваше письмо». У Лили длинные ресницы поднимались и опускались, независимый носик был гордый и чужой, но во-вот и носик и все лицо перестанут быть чужими и рассмеются… Он просыпался, оглядывался, - странный свет уличного фонаря лежал на стене… И снова Никите снилось то же самое. Никогда наяву он так не любил эту непонятную девочку» [2, с. 184].
Познание окружающего мира. Ярко выраженные наглядно-образный характер и положительно-эмоциональная окрашенность познания окружающего мира Никитой, очевидно, были обусловлены его индивидуальностью и тесным взаимодействием с природой родного края, а не только особенностями возраста. Важной характеристикой его познавательных процессов становилась их интеграция, обретение произвольности. Никита ставил цели умственной деятельности – понять сущность каких-либо природных явлений, абстрактных понятий, характер человека, написать стихи, придумать историю о своих приключениях и пр.; использовал средства для их достижения - рассматривание, слушание, опора на литературный текст, антропоморфизация и пр.; контролировал полученный результат, определяя его соответствие поставленной цели – точно ли сочиненное стихотворение передало возникший замысел и пр.
Индивидуальность Никиты отличали огромные наблюдательность, любознательность, познавательный интерес ко всему происходящему в окружающем мире и природе. В предчувствии счастья, чуда ни одно событие, явление не проходили мимо его внимания. Никита воспринимал звуки, запахи, цвета тонко, конкретно, определенно, в соответствии с их принадлежностью к отдельному предмету, включенному в ту или иную ситуацию. Он прислушивался ко всем звукам. «Вдруг в доме скрипнула дверь и послышалось, как по коридору идут в мерзлых валенках» [2, с. 92]. «За большой печью – тр-тр, тр-тр – пилил деревяшечку сверчок. Потрескивала в соседней темной комнате половица» [2, с. 95]. «Кто-то тяжело прошел за стеной по коридору, - должно быть, истопник, и под лампой нежно зазвенели хрусталики» [2, с. 106].
Никиту привлекало разнообразие запахов. В коридоре «тепло и уютно пахло печами» [2, с. 98]; «на полу в зале лежала куча яблок, - гниловатый сладкий запах их наполнил всю летнюю половину» [2, с. 99]; «от ели веяло холодом, но понемногу… по всему дому запахло хвоей» [2, с. 117]; «…по всему дому запахло ванилью и кардамоном, - начали печь куличи» [2, с. 147].
Никита видел мир ярко окрашенным. «Весь двор был покрыт сияющим, белым мягким снегом. Синели на нем глубокие человечьи и частые собачьи следы» [2, с. 93]. От горящей печи «красноватым мигающим светом были освещены спинки кожаных кресел, угол золотой рамы на стене» [2, с. 118]. Елка «стояла как огненное дерево, переливалась золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками» [2, с. 119]. «Фонарик задрожал, и красные и синие лучи его полетели по стенам… Лунный свет сквозь окна лежал голубоватыми квадратами на паркете» [2, с. 125].
Восприятие времени Никитой, как абстрактной величины, не имеющей наглядной основы, зависело от ожидания интересного события, насыщенности важными делами. Ему казалось, что время остановилось перед веселым праздником елки: «Солнце страшно медленно ползло к земле, розовело, застилалось мглистыми облачками, длиннее становилась лиловая тень от колодца на снегу» [2, с. 117]. В день рождения Никита не спеша одевался, так как не хотелось, чтобы скоро уходило время. Летом оно так уплотнилось занятостью с Мишкой, верховой ездой, полевыми работами, что он не заметил, как не ответил на письмо Лили. В отличие от деревни в городе «часы шли здесь иначе – летели» [2, с. 183].
В иерархии познавательных процессов, тесно связанных с конкретной ситуацией и имеющих наглядный характер, ведущее место занимала образная память. Она хранила представления о предметах и их свойствах, окружающих людях и их деятельности, объектах и явлениях природы, пространстве и времени, героях литературных произведений. Эти конкретные образы Никита использовал как «строительный материал» для воображения, мышления, сочиняя стихи, фантастические истории, представляя наглядные ситуации во сне, условия решения арифметических задач. Образная память обеспечивала целостность восприятия, выполняла интегрирующую функцию, объединяя зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные элементы. Информация о прошлых событиях при воспроизведении складывалась в четкий и яркий образ целостной ситуации, приобретая «картинность». Она содержала совокупность обобщенных, четко дифференцированных, логически осмысленных, выразительных, динамических образов, отражающих многообразие их связей друг с другом и имеющих определенное эмоциональное отношение к ним Никиты, личностный смысл. Образ такой ситуации вызвало Лилино письмо: «Из него пахнуло вдруг прелестью отлетевших рождественских дней. Затеплились свечи. Покачиваясь тенью на стене, появился большой бант над внимательными синими глазами девочки, зашуршали елочные цепи, заискрился лунный свет в замерзших окнах. Призрачным светом были залиты снежные крыши, белые деревья, снежные поля… Под лампой, у круглого стола, снова сидела Лиля, облокотившись на кулачок… Колдовство!» [2, с. 173-174].
Память Никиты отражала не только образы близких, картины природы, истории из прочитанных книг, но эмоциональные состояния и важные события его жизни. Закладывался образ себя в прошлом, фундамент памяти личности, истории жизни, включенный в историю близких, появились личные воспоминания об общении с Лилей, чувствах к ней. Толчком для них служили те места, в которых происходили важные для Никиты события. Гуляя по усадьбе, он вспоминал, как у колодца увидел в окне дома единственный на свете голубой бант, а сейчас это окно пусто; как у каретника отнял у собак мертвую галку, которую пожалела Лиля, отнес ее за погребицу и закопал в сугробе. «Проходя по плотине, Никита вспоминал, как он шел здесь ночью, после елки, под огромными, прозрачными в лунном свете ветлами, и сбоку скользила его тень. Почему он тогда так мало дорожил тем, что с ним случилось? Надо было бы тогда внимательно, закрыв глаза, почувствовать, - какое было счастье. А сейчас колючий ветер шумит в мерзлых, черных ветлах, на пруду совсем замело ледяную горку, с нее он и Лиля скатились тогда на салазках, - Лиля молчала, зажмурилась, крепко вцепилась в бочки салазок. Все следы замело снегом» [2, с. 134].
Воображение Никиты, опираясь на образы восприятия и памяти, достраивало видимое, а эмоции придавали ему определенную окраску. Зимний пейзаж после проводов деревенских детей с елки Никита увидел, как счастливое заколдованное царство: «…в небе высоко, в радужном бледном круге, горела луна. Деревья на плотине и в саду стояли огромные и белые и, казалось, выросли, вытянулись под лунным светом. Направо уходила в неимоверную морозную мглу белая пустыня. Сбоку Никиты передвигала ногами большеголовая тень» [2, с. 120-121]. Чувство счастья, вызванное случайно услышанным голосом Лили, отразилось на рассматривании Никитой морозных узоров на оконном стекле: «Нежные и причудливые узоры эти были как из зачарованного царства, - оттуда, где играл неслышно волшебный ящик. Это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры зверей и людей» [2, с. 123]. Восторженное восприятие подстегнуло творческое воображение к сочинению стихов: «Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами собой складываются, поют, и от этого, от этих удивительных слов и пения, волосам у него стало щекотно на макушке» [2, с. 123]. Они ему понравились, но казалось, что «написанные слова были не те, что сами напевались только что, просились на волю» [2, с. 123]. Их эмоционально-личностное содержание он объяснил Виктору: «…в этих стихах лес один описывается. Этот лес такой, что его нельзя увидать, но все про него знают… Если тебе грустно, прочти про лес, и все пройдет. Или, знаешь, бывает, привидится что-то страшно хорошее, не поймешь что, но хорошее, - проснешься и никак не можешь вспомнить… » [2, с. 124].
Выполняя гностическую функцию, воображение значительно расширяло границы познания, как бы снимало границу между тем, что Никита мог воспринять и тем, что было недоступно непосредственному восприятию, позволяло «участвовать» в событиях, не встречающихся в обыденной жизни. Полет по комнате, одну из своих фантазий, он видел во сне: «…протянул руки, оттолкнулся от стола и прыгнул и, быстро-быстро перебирая ногами, не то полетел, не то поплыл над полом. Необыкновенно приятно летать по комнате. Когда же ноги стали касаться пола, он взмахнул руками и медленно поднялся к потолку и летел теперь неровным полетом вдоль стены» [2, с. 97]. Возвращаясь после молотьбы на возу, Никита смотрел на звездное небо, воображая далекие миры, свой полет к ним: «Все небо усыпано августовскими созвездиями. Бездонное небо переливалось, словно по звездной пыли шел ветерок. Разостлался светящимся туманом Млечный Путь. На возу, как в колыбели, Никита плыл под звездами, покойно глядел на далекие миры. «Все это – мое, - думал он – когда-нибудь сяду на воздушный корабль и улечу…» И он стал представлять летучий корабль с крыльями как у мыши, черную пустыню неба и приближающийся лазурный берег неведомой планеты, - серебристые горы, чудесные озера, очертания замков и летящие над водой фигуры и облака, какие бывают в закате» [2, с. 180]. Так воображение, опираясь на реальные характеристики объектов, черпая образы из окружающего, создавало новые, становясь творческим. Но при этом оставалась важнейшая его характеристика – реализм, ведь Никита понимал, что может и чего быть не может, различал вымысел и действительность, реальное и придуманное в мечтах.
Восприятие ставило познавательные проблемы, например, понять, что свистит на чердаке. Ее Никита решал в воображении при помощи антропоморфизации - одушевления, одухотворения, олицетворения природных явлений. Одним зимним вечером его привлекло многообразие звуков на чердаке: «…посвистывало протяжно. Вот затянуло басом – уууууууууууу, - тянет, хмурится, надув брови. Потом завитком перешло на тонкий, жалобный голос и засвистело в одну ноздрю, мучится до того уж тонко, как ниточка. И снова спустилось в бас и надуло губы. …А тот на чердаке старался, насвистывал: «юу-юу-юу-юу-ю». «Буууууууууу, - гудело на чердаке» [2, с. 106-107]. Снимая неопределенность проблемы, Никита вообразил конкретную ситуацию и ее героя со всеми их характерными признаками: «…на холодном темном чердаке нанесло снегу в слуховое оконце. Между огромных потолочных балок, засиженных голубями, валяются старые, продранные, с оголенными пружинами стулья, кресла и обломки диванов. На одном таком креслице, у печной трубы, сидит «Ветер»: мохнатый, весь в пыли, в паутине. Сидит смирно и, подперев щеки, воет: «Скуууучно». Ночь долгая, на чердаке холодно, а он сидит один-одинешенек и воет» [2, с. 107].
Антропоморфизация помогала Никите в восприятии животных, птиц. Он наделял их специфически человеческими реалистическими действиями, включал в жизненные ситуации, характерные для людей, приписывал им человеческие мысли, чувства, поступки, интерпретировал их поведение на человеческий лад. Зимним вечером Никите показалось, что кроткий и добродетельный кот Васька, глядевший зелеными, с узкой щелью притворными глазами, что-то знает, о чем пришел рассказать. Перед отъездом семьи Бабкиных кот, которому «было не скучно и не весело, торопиться некуда», рассуждал: «завтра, - думал он, - у вас, у людей, - будни, начнете опять решать арифметические задачи и писать диктанты, а я, кот, праздников не праздновал, стихов не писал, с девочкой не целовался, - мне и завтра будет хорошо» [2, с. 127]. Когда Никита запер кота в чулане на ночь за покушение на птенца Желтухина, тот «орал хриплым мявком и не хотел даже ловить мышей, - сидел у двери и мяукал так, что самому было неприятно» [2, с. 160]. Отметим, что Никита по отношению к животным, как и к мальчишкам в драке, следовал нравственным нормам справедливости, доброты, помощи, защиты слабых, а еще и важности чужой жизни.
Никита слушал, как скворцы заливались разными голосами, насвистывали то соловьем, то жаворонком, «как медовым голосом, точно в дудку с водой, свистит иволга» [2, с. 155]. Птицы пели не только о красоте мира, но и о надежде на будущее, имеющей некий общечеловеческий смысл: «закуковала кукушка: печальным, одиноким, нежным голосом благословляла всех, кто жил в саду, начиная от червяков: «Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одна проживу ни при чем, ку-ку…». Весь сад слушал кукушку… все загадали судьбу» [2, с. 154]; а «…дикий голубь, - закрыл глаза, надув грудку, печально, сладко ворковал о том, что точно так же все это будет всегда, и пройдет, и снова будет» [2, с. 167]. Выпавшего из гнезда скворца Желтухина Никита считал думающим и переживающим. Птенец сначала, опасаясь за свою жизнь, боялся мальчика, размышлял о том, съест ли он его и когда, а потом решил, что сильнее Никиты зверя нет. Он с интересом слушал разговоры людей, научился говорить по-русски, стал самостоятельным, предприимчивым, умным.
Темно-рыжий мерин Клопик понравился Никите за вежливость, кротость, удивительно добрую морду. Хотя Никита, догнав тройку с родителями, хотел проехать мимо, Клопик, как мыслящее животное, «рассудил, что это – лишнее, и когда поравнялся с коляской, то свернул на дорогу и пошел рысью, ровненько позади колес, в облаке пыли. Никами силами его нельзя было ни приостановить, ни свернуть в сторону: все это он считал излишним, - ехать, так ехать по дороге, зря не задираться» [2, с. 166].
Восприятие человека и осмысление его отличительных особенностей помогали Никите представить его характер. Утром к нему «в комнату просунулась голова в очках, с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородой. Голова подмигнула и сказала: «Встаешь, разбойник?» [2, с. 90]. Это был вездесущий Аркадий Иванович. Когда он самозабвенно объяснял Никите правила алгебры, «в чернильнице отражалось его лицо, круглое как кувшин. Рассказывая по истории, Аркадий Иванович вставал спиною к печке. На белых изразцах его черный сюртук, рыжая борода и золотые очки были чудо как хороши» [2, с. 132-133]. За утренним чаем Анна Аполлосовна, непоколебимая и самоуверенная, «размахивая руками, разговаривала таким громким и густым голосом, что звенели стекляшки под лампой» [2, с. 112]. Потом она «с шумом отодвинула стул и пошла в спальню с намерением писать письма, но через минуту в спальне так страшно затрещали пружины кровати, точно на нее повалился слон» [2, с. 113]. «Кривобокенькая, рябенькая…, с выщербленным от постоянного перегрызания нитки передним зубом…, швея Софья была такая скучная девица, словно несколько лет она валялась за шкафом, - ее нашли, почистили немного и посадили шить» [2, с. 132]. Образ Лили так и остался непонятным для Никиты как большой голубой бант над ее внимательными синими глазами.
Никиту интересовали рисунки, книги, родной язык. Рассматривая картинки в «Ниве», он искал их смысл, соотносил изображение с его объяснением. Художник нарисовал: «стоит женщина на крыльце с голыми до локтя руками; в волосах у нее - цветы; на плече и у ног – голуби. Через забор скалит зубы какой-то человек с ружьем за плечами» [2, с. 105]. «В объяснении сказано: «Молодая Эльза, дочь пастора, вышла на крыльцо. Голуби увидели свою любимицу и радостно летят к ее ногам. Посмотрите – один сел на ее плечо, другие клюют из ее руки. Молодой сосед, охотник, любуется украдкой на эту картину» [2, с. 105]. Домысливая, чем займутся герои картинки, Никита представил: «Эльза покормит, покормит голубей, и делать ей больше нечего – скука. Отец ее, пастор, тоже где-нибудь в комнате – сидит на стуле и зевает от скуки. А молодой сосед оскалился, точно у него живот болит, да так и пойдет, оскалясь, по дорожке, и ружье у него не стреляет, конечно. Небо на картинке серое и свет солнца – серый» [2, с. 105]. Поэтому Никита заключил, что картинка скучная, не интересная, непонятно, для чего нарисованная.
Увлеченно читая приключенческие книги Ф. Купера, М. Рида, он с легкостью входил в предлагаемые обстоятельства, представляя, как «всадник без головы мчался по прерии, хлестала высокая трава, всходил красный месяц над озером» [2, с. 96]. При этом Никита чувствовал, как от быстрой скачки волосы на затылке у него шевелятся. Когда «он осторожно обернулся – за черными окнами пронеслась какая-то сероватая тень. Честное слово, он ее видел» [2, с. 96]. Он удивлялся, почему взрослые могут читать все скучное, как книжки в кирпичной обложке «Вестник Европы», которых полон шкаф в кабинете отца, ведь «читать такую книжку – точно кирпич тереть» [2, с. 106]. Волшебную книгу Ф. Купера Никита предпочитал перечитывать в теплом кабинете отца, залезая на кожаный диван, поближе к печке. Здесь было так тихо, что в ушах появлялся едва слышимый звон, под который он в одиночестве выдумывал необыкновенные истории. Никита «подолгу, без начала и конца, представлял себе зеленые, шумящие под ветром травяными волнами, широкие прерии; пегих мустангов, ржущих на всем скаку, обернув веселую морду; темные ущелья Кордильеров; седой водопад и на ним – предводителя гуронов – индейца, убранного перьями, с длинным ружьем, неподвижно стоящего на вершине скалы, похожей на сахарную голову» [2, с. 133]. Себя Никита, как одного из главных героев, включал в хорошо знакомые литературные события: «В лесной чащобе, в корнях гигантского дерева, на камне сидит он сам – Никита, подперев кулаком щеку. У ног дымится костер. В чащобе этой так тихо, что слышно, как позванивает в ушах» [2, с. 133-134]. Он наделял себя нравственными качествами (справедливость, защита обиженных, смелость, мужество) и нравственными чувствами (сопереживание, сочувствие), мотивируя свои подвиги. Никита вводил в сюжет некоторые добавления, нового героя – Лилю, придумывал иное его продолжение или соединял несколько разных сюжетов, привнося эмоциональный контекст, личностный смысл: он вновь и вновь искал, спасал коварно похищенную индейцами Лилю. «Он совершил много подвигов, много раз увозил Лилю на бешеном мустанге, карабкался по ущельям, ловким выстрелом сбивал с сахарной головы предводителя гуронов, и тот каждый раз снова стоял на том же месте» [2, с. 134].
Опираясь на наглядно-образное мышление, Никита пытался понять абстрактные понятия, образные литературные выражения, метафоры. Конкретная образность мышления позволяла выделять в объектах и ситуациях не всегда существенные признаки, но наиболее яркие и важные для практического опыта, приводя к необычным, с точки зрения взрослого, умозаключениям. Ведь усваивая смысловое содержание слова, Никита оперировал конкретными образами единичных предметов, вызванных словом, с которым оно прочно связано. Этот образ он использовал целостно, не подвергая анализу. Присматриваясь к поведению Аркадия Ивановича, получившего письмо, который весь день «был чрезмерно весел, отвечал невпопад и нет-нет да и вытаскивал из кармана какое-то письмецо, прочитывал строчки две из него и морщил губы» [2, с. 95], Никита сделал вывод о существовании у него тайны. Что такое разлука Никита понял, опять-таки наблюдая за учителем, «который притворился, что читает, на самом деле его глаза были закрыты, хотя он не спал. Никите стало жалко Аркадия Ивановича: бедняк, все думает о своей невесте, Вассе Ниловне, городской учительнице» [2, с. 131]. Представление о своей разлуке Никита связал с конкретным образом Лили, напоминающими ее присутствие предметами, а потому с переживанием грусти по поводу того, что девочка была, а теперь отсутствует. Он вспомнил, что «на этом месте у стола сидела Лиля, а сейчас ее нет… А вот - пятно на столе, где она пролила гуммиарабик. А на этой стене была когда-то тень от ее банта. «Пролетели счастливые дни». У Никиты защипало в горле от этих необыкновенно грустных, сейчас им выдуманных слов. Чтобы не забыть их, он записал внизу под Америкой: «Пролетели счастливые дни» [2, с. 131].
Васса Ниловна, городская учительница, сообщила Аркадию Ивановичу, что не приедет летом в Сосновку погостить, потому что «прикована к постели больной матери». Никита за языковой метафорой увидел образ конкретной героини в реальной ситуации: «сидит длинная унылая женщина в серой кофточке, со шнурком от часов, и одна ее нога прикована цепью к ножке кровати» [2, с. 169]. Этот грустный образ усилился под действием необычной жары, поэтому Никите «в особенности в эти тусклые от сухой мглы, душные дни тоскливо было представлять себе городскую учительницу, сидевшую у голой стены, у железной кровати» [2, с. 169].
В описании условий арифметических задач Никита также видел наглядно-образную ситуацию взаимодействия в ней конкретных персонажей, а не стоящие за ними абстрактные математические отношения. «Купец продал несколько аршин синего сукна по 3 рубля 64 копейки за аршин и черного сукна… - прочел Никита. И сейчас же, как и всегда, представился ему купец из задачника. Он был в длинном пыльном сюртуке, с желтым унылым лицом, весь скучный и плоский, высохший. Лавочка его была темная, как щель; на пыльной плоской полке лежали два куска сукна; купец протягивал к ним тощие руки, снимал куски с полки и глядел тусклыми неживыми глазами на Никиту» [2, с. 91]. Когда Аркадий Иванович спросил: «Сколько было продано синего сукна и сколько черного?» - Никита сморщился, купец совсем расплющился, оба сукна вошли в стену, завернулись пылью…» [2, с. 91-92]. Объясняя решение задачи, учитель «быстро писал карандашом цифры, помножал их и делил, повторяя: «Одна в уме, две в уме». Никите казалось, что во время умножения – «одна в уме» или «две в уме» быстро прыгали с бумаги в голову и там щекотали, чтобы их не забыли. Это было очень неприятно» [2, с. 92]. И все-таки в арифметике, благодаря ее конкретной наглядности, Никита думал «о разных бесполезных, но забавных вещах: о заржавевших, с дохлыми мышами, бассейнах, в которые втекают трубы, о каком-то в клеенчатом сюртуке, с длинным носом, вечном «некто», смешавшем три сорта кофе или купившем столько-то золотников меди, или все о том же несчастном купце с двумя кусками сукна. Но в алгебре не за что было зацепиться, в ней ничего не было живого, только переплет ее пахнул столярным клеем» [2, с. 132]. Эмоционально-конкретная образность познания Никиты создавала своеобразную картину окружающего мира, наполненную как реальными, так и вымышленными предметами, природными явлениями, живыми, мыслящими существами в многообразии их признаков - звуков, запахов, красок, различных привычек, повадок, характеров, образа жизни.
Выводы. Идеи и образы повести А.Н. Толстого являются значимыми для понимания психологии детства, поэтому обращение к его психологическим взглядам актуально в настоящее время. Процесс взросления в детстве писатель представляет следующим образом. 1) Его условиями являются взаимодействие ребенка с природой родного края, его разнообразные занятия и дела, эмоционально-личностное общение с близкими взрослыми и сверстниками, личностно-ориентированная, гендерная позиция родителей в воспитании. 2) Рубеж взросления к десяти годам в личности и сознании ребенка состоит в обретении им самостоятельности, произвольности поведения, деятельности, познавательных и эмоциональных процессов, когда складываются внутренний план действия, иерархия мотивов с приоритетом нравственных; образ себя в совокупности представлений о своих умениях и качествах, гендерной принадлежности, отношении к себе, в том числе во времени. 3) Дифференциация эмоциональных процессов по направленности способствует не только появлению широкого спектра познавательных, эстетических, нравственных переживаний, но их осознанию, анализу и контролю за ними. 4) Интеграция познавательных процессов, обретение ими произвольности приводят к становлению внутренней деятельности, имеющей положительно-эмоциональную окраску, наглядно-образный характер, - познанию окружающего мира в совокупности целей, средств их достижения, контроля результата. 5) Индивидуальность ребенка выражается в эмоциональности мироощущения, ожидании и переживании счастья, радости от всего происходящего в мире, доверии к нему, высоком уровне познавательной активности, приводя к первой влюбленности, поэтически-восторженным мечтам и творчеству.
1. Vospominaniya ob A.N. Tolstom. − Moskva: Sov. pisatel'. 1982. Izd. 2-e, dop. 495 s.
2. Tolstoy A.N. Detstvo Nikity // Tolstoy A.N. Povesti i rasskazy. Kaunas: Shviesa. − 1983. − S. 89-184.
3. Tolstoy A.N. Sobranie sochineniy v 8 tt. T. 2. Povesti i rasskazy. − Moskva: Pravda. Biblioteka «Ogonek». 1972. 480 s.
4. Tolstoy L.N. Detstvo. Otrochestvo. Yunost'. − Moskva: Gos. izd-vo hud. lit-ry. 1955. 332 s.